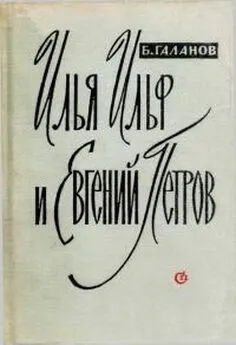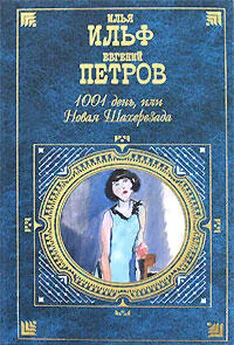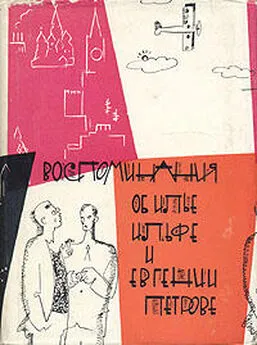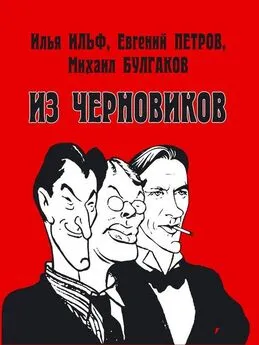Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров
- Название:Илья Ильф и Евгений Петров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Советский писатель
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Галанов - Илья Ильф и Евгений Петров краткое содержание
Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов.
Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.
Илья Ильф и Евгений Петров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В таком духе Эйзенштейн и осуществил свою постановку. Через большой зал морозовского особняка на Остоженке, где ныне помещается Академия художеств, а когда-то давал спектакли театр Пролеткульта, был протянут стальной трос. В цилиндре и во фраке, балансируя оранжевым зонтиком, по тросу скользил Гр. Александров, будущий постановщик кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Встреча на Эльбе». Верхом на верблюде, взятом напрокат в зоопарке, в зал въезжала актриса Ю. Глизер (в театре Колумба на верблюде появлялся друг Подколесина Кочкарев). Актриса В. Янукова с лихим «voila» взбиралась на «мачту смерти» — «перш», торчавший из-за пояса генерала Крутицкого — А. Антонова (в фильме «Броненосец «Потемкин» Антонов сыграл матроса Вакулинчука). Были и другие эксцентрические выходки в таком же роде.
Чем не театр Колумба? Даже, пожалуй, почище!
Сам Эйзенштейн через много лет вспоминал об этих «безумных спектаклях» с улыбкой, но в то же время гордясь самоотверженностью «целой оравы молодых энтузиастов», которые с ним работали. Да и как можно было не оценить энтузиазм Януковой, исполнительницы роли Мамаевой. Всякий раз, когда госпожа Мамаева бесстрашно карабкалась на высоту балкона, постановщик «Мудреца», зажмурив глаза и заткнув уши, бегал по подвалам морозовского особняка, стараясь не думать о том, что происходит сейчас наверху. (Архив С. М. Эйзенштейна.)
Другой пример наудачу.
В 1927 году «Смехач» выводил на свежую воду довольно известного поэта, который умудрился сварганить стихи на одну и ту же тему для журналов «Печатник», «Медицинский работник», «Пролетарий связи» и «Голос кожевника», так что знаменитый автор «Гаврилиады» мог перекочевать в роман из ранее написанной юморески Петрова «Всеобъемлющий зайчик» и одновременно из свежего номера сатирического журнала. У великолепного Никифора Ляписа оказался очень широкий и очень конкретный адрес. Продолжая сравнения, можно добавить, что описание редакционного дня в газете «Станок» сильно смахивало на рабочий день в редакции «Гудка», что мрачные комнаты-пеналы общежития имени монаха Бертольда Шварца как две капли воды напоминали жилище Ильфа, где лежал матрац на четырех кирпичах и красовался одинокий стул. Авессалом Изнуренков написан с М. А. Глушкова, человека, который в своей жизни не сочинил ни одного фельетона, но дал сотни остроумнейших тем для фельетонов и рисунков чуть не всем московским сатирическим журналам. А слесарь-интеллигент Полесов походил на соседа Ильфа, механика. Этот механик скупал на Сухаревском рынке всевозможный металлолом и с превеликим грохотом строил у себя дома мотоцикл. А. Эрлих рассказывает, что многие лица, послужившие для персонажей «Двенадцати стульев» прототипами, были известны друзьям Ильфа и Петрова поименно. Однако открылись они перед ними во всей полноте, во всей своей обнаженной сущности лишь на страницах романов Ильфа и Петрова. Заметим в скобках, что у Остапа Бендера, о котором Эрлих почему-то пишет как об одном-единственном герое романа, целиком выдуманном, тоже были прототипы.
Кое-что в таком обращении с материалом шло от шутливости «капустников», от молодости авторов, от привычной атмосферы острословия, постоянно царившей в комнате четвертой полосы. Эту игровую стихию в ранних своих произведениях Ильф и Петров не собирались слишком строго обуздывать и призывать к послушанию. В «Двенадцати стульях» много непосредственной веселости, озорной игры, остроумных намеков, легко, впрочем, поддающихся расшифровке.
Нельзя, однако, сводить все особенности юмористической манеры Ильфа и Петрова к одной только молодости авторов, беззаботной веселости, озорной игре. Мы знаем, что при переходе Советского государства к новой экономической политике Ильф и Петров испытывали некоторую растерянность и даже страх перед нэпом. В середине 20-х годов такого рода страхи остались уже где-то позади. А в пору создания «Двенадцати стульев» над ними можно было только посмеяться. И сатирики громко смеялись, всем существом ощущая комизм, ничтожность врага, свое превосходство над ним. Их смех торжествующий, празднующий победу, бьющий сверху вниз,— это определяет тональность романа. Ни в первой книге Ильфа и Петрова, ни в последующих незачем искать отголоски трагической сатиры Щедрина или горький гоголевский смех сквозь слезы. Для этого не было оснований. Ильфу и Петрову в высшей степени была свойственна та черта, которую Белинский называл «комическим одушевлением» и которая у старых писателей часто побеждалась чувством глубокой грусти. Еще в 30-е годы один критик, характеризуя манеру Ильфа и Петрова, определял ее несколько претенциозно, но верно по сути — как «смех сквозь смех», а взрывы этого смеха назвал «взрывами бодрости». Действительно, в первом же романе Ильфа и Петрова буквально каждая страница пронизана «комическим одушевлением». Такова оригинальная особенность цвета очков, через которые они смотрели на мир.
Но веселость не должна заслонять от нас в первой же книге Ильфа и Петрова главного — сатирического обличения малого мира. «Смех сквозь смех» не был смехом ради смеха. Его непосредственность, веселость внушали сильные сомнения угрюмым педантам, всегда готовым истолковать легкость как облегченность, шутку как легкомыслие и непременно желавшим дополнить смех Ильфа и Петрова свирепостью щедринской сатиры, словно «легкий» и с виду даже беззаботный смех Ильфа и Петрова не умел выставить со всей силой «пошлость пошлого человека» (Гоголь), а живые прототипы людоедки Эллочки не трепетали от шуток Ильфа и Петрова, как «связанный заяц». Было бы нелепо становиться в позу таких критиков, которые, браня Ильфа и Петрова за то, что оба они очень веселые люди, доказывали на этом основании, что в «Двенадцати стульях» нет никакой «политической установки», что своих героев писатели не разоблачали, а только «обыгрывали», что они «веселились неорганизованно», «издевку подменяли шуткой» и, по грозному приговору журнала «Книга и революция», вообще произвели «холостой выстрел». К слову говоря, такие критики каждое новое произведение Ильфа и Петрова использовали как предлог для сурового осуждения предыдущего. Хваля «Золотого теленка» за остроту, они ругали «Двенадцать стульев» за благодушие, а потом «Золотого теленка» корили фельетонами в «Правде». Но подобные приемы вряд ли могут считаться плодотворными, потому что, сталкивая книги, критики игнорировали эволюцию творчества, обходили вопрос о том, какими трудными и сложными внутренними путями вырабатывалось мировоззрение писателей, как от романа к роману Ильф и Петров накапливали опыт, мастерство, сатирические краски.
Некоторые действительные, а не мнимые слабости «Двенадцати стульев» в какой-то степени разделялись авторами ряда сатирических произведений 20-х годов,— не халтурщиками, о которых Маяковский говорил, что они «почтительно приноравливались к легкому нэпо-чтению», а по-настоящему талантливыми и серьезными писателями. Дело в том, что «призрачная легковесность» нэпа, если воспользоваться выражением Алексея Толстого, определяла, по его же словам, и самый характер многих произведений сатиры. Считалось, что врага теперь можно «сбить с жизни щелчком». Поэтому и маски брались нарочито мелкие. Вспомним популярную в свое время комедию Николая Эрдмана «Мандат», долго не сходившую со сцены театра Мейерхольда. Современная ей критика справедливо отмечала, что мир лавочников Гулячкиных — это пестрая человеческая пыль. У Ильфа и Петрова с подобным изображением обывательской, нэмпанской «периферии» в какой-то степени сближает описание союза «Меча и орала». Однако безоговорочно мерять деятелей «Меча и орала» той же меркой, что и Гулячкина, было бы по меньшей мере неосмотрительно. Стремясь подчеркнуть всю мелкость, всю никчемность врага, Эрдман уменьшал персонажей своей пьесы до таких микроскопических размеров, что они и впрямь уже переставали казаться опасными. Ильф и Петров тоже не собираются принимать конспираторов из «Меча и орала» всерьез. Ведь и самый этот союз что-то очень уж водевильное — фикция, видимость, «материализация духов», всего лишь мимолетная выдумка заезжего жулика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: