Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]
- Название:Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке] краткое содержание
Среди авторов этого сборника известные писатели — Ю. Карякин, Н. Шмелев, О. Чайковская и другие.
Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я хочу сказать тебе, как много значила для меня твоя дружба в течение всей моей жизни, хотя мы подолгу не виделись. Так или иначе, опыт всей твоей жизни является символом того трагического времени, в котором мы живем, и я всегда восхищался твоей стойкостью. Ты никогда не терял интереса к жизни во всех ее проявлениях и той огромной жизнерадостности, которая тебе присуща, даже после самых ужасных переживаний.
Я ясно помню не только геттингенское время, но и следующие наши встречи в Москве и в Новосибирске, хотя и после этих встреч прошло много лет…
Ты, конечно, стал старше, и цвет твоих волос, наверное, изменился, но сейчас, так же как и при каждой нашей встрече, я вижу тебя молодым Румером геттингенских дней.
К сожалению, мои поездки в Россию стали не такими частыми, как раньше, поскольку мне приходится отказывать себе в путешествиях из-за здоровья.
И все-таки я надеюсь и буду ждать еще случая, когда мы встретимся и обсудим все проблемы этого беспорядочного мира.
Позволь мне пожелать тебе и твоей жене долгих лет жизни, здоровья, радости.
Старый твой друг Викки Вайскопф ».Ю. Рост
Академик
Судьба — мытарь и меняла. Предлагая нам выбор, она знает заранее, какую цену придется заплатить за право иметь собственное суждение насчет устройства мира.
Надо думать… Теперь, когда этот процесс стал пусть не всегда результативным, но не опасным, мы с особым вниманием должны вглядываться в лица людей, которые думали всегда и задумывались…
Многие из них, оболганные, репрессированные, уничтоженные, «возвращаются в строй»… Так мы иногда себе представляем процесс реабилитации, забывая, что ни взгляды, ни мысли тех людей, ни восприятие ими событий не изменились и не они вернулись в наш строй — сам строй начинает выравниваться по этим людям.
Но по-прежнему кажется, что, восстанавливая добрые имена, мы оказываем им честь (словно оттого, что мы прочли «Котлован», «Чевенгур», Платонов стал писателем лучшим, чем несколько лет назад. Его строки уже написаны, они стали великой литературой независимо от того, поняли мы это или нет).
Реабилитация — покаяние общества перед невинными его жертвами, убитыми или невыслушанными. Покаяние, в свою очередь, реабилитирует общество. Оно дает возможность утвердиться в правоте определения истинных ценностей — некоторым, переосмыслить эти ценности — многим и осмыслить — большинству.
Двадцать второго декабря 1986 года я шел по пятому этажу «Литературной газеты» и не подозревал, что через полсуток стану свидетелем события, которое привлечет внимание всего мира.
— Ну, ты-то, конечно, завтра будешь на вокзале? — шепотом спросила меня у лифта приятельница.
— А не знаешь, какой вокзал? — спросил я, будто остальное мне известно…
— Куда из Горького приходят поезда? На Ярославский…
Там у меня не было ни родных, ни друзей, и единственный человек, которого я как журналист (и не как журналист) должен бы встречать из Горького, был академик Андрей Сахаров.
Зарядив несколько кассет фотопленкой и положив в карман куртки диктофон, я стал думать, как узнать номер поезда с академиком.
— Академиком в высоком нравственном смысле? — спросил мой приятель, художник-прогрессист, которому я позвонил, чтобы узнать час приезда.
Услышав в ответ «да», он попрощался с поспешностью, которую можно было бы принять за неучтивость, имея в виду культурные традиции его семьи, но не беря в расчет тему разговора. Это был мой третий безрезультатный и пугающий собеседников звонок. (Сегодня торопливые гудки при возникновении «нетелефонных разговоров» кажутся наивными — мы стремительно продвинулись вперед к правде, хотя еще вчера они были понятны, и понятливость эта хранится в нас на всякий случай, впрок.)
Оставалась еще одна возможность, самая простая и нормальная, — набрать номер справочного телефона Ярославского вокзала, но я медлил. Я уговаривал себя, что проще поехать на площадь трех вокзалов и посмотреть расписание, чем слушать механический голос «ждите ответа». Но это были уловки для себя: не механического голоса я боялся и даже не электронного слуха… Я боялся собственного страха. И страх этот, который жил во мне, как и во многих из нас, почти незаметно выполз теперь наружу.
Он стал частью нашего несвободного сознания, и мы не чувствовали необходимости его изживать, потому что приспособились к нему и боялись, уже не замечая того. Окрашиваясь в разные краски душевных движений, страх превращался в нас то в публичную поддержку любых кампаний и решений партии и правительства, то в веру на слово о «светлом будущем», то в убежденность о непогрешимости цитат, надерганных из текстов временщиков и классиков марксизма, в уверенность, что идеи хороши, а исполнители скверны, что наш строй (и в двадцатых, тридцатых годах, сороковых, пятидесятых…) был всегда самым гуманным, что лозунг «все во имя человека, для блага человека» имеет в виду не одного человека, а каждого. Этот страх трансформировался в «единодушную поддержку», «законную гордость», «единогласное избрание», «достойную отповедь клеветникам», «чувство глубокого удовлетворения» и т. д. Иногда он мог вылиться в отчаянный поступок (отчаянный тоже от страха), но это не меняло дела.
Как осколок, заросший соединительной тканью, он почти не беспокоил нас. Лишь изредка, при неловком слове, при нечаянном воспоминании, словно при резком движении, страх напоминал о себе, и во преодоление «боли» мы глушили его сознательным или рефлекторным уже безучастием к чужой и своей судьбе, безразличием и цинизмом, не решаясь на хирургическую операцию, которую, впрочем, могли сделать себе лишь сами.
Господи! Возможно ли избавиться от него, если он въелся в скелет, в мышцы, в речь, в мысли, в чувства, если мы родились в царствование его, и всю жизнь он был и поводырем, и охранителем нашим, и детей своих мы воспитывали в страхе, повиновении и конформизме? Аминь.
Теперь он лег на телефон, как на амбразуру, защищая меня, и больших усилий стоило ткнуть палец в кольцо телефонного диска. Безразличная «двадцать третья», не подозревая о моих муках, бесстрастно назвала три поезда, первый из которых приходил в четыре утра, а последний — в семь.
Было время подумать, в чем провинился передо мной академик и насколько соответствует истине фраза участника телемоста Москва — Токио — молодого симпатичного вполне парня, который на вопрос, почему вы плохо относитесь к Андрею Сахарову, ответил: потому что он враг советского народа и всей своей деятельностью нанес вред нашей стране. Впрочем, телемост состоялся, возможно, уже после возвращения академика в Москву, но суть от этого не меняется, потому как с 1973 года в головы наши вкладывали оценки деятельности академика (вне физических проблем), не балуя информацией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1095277/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut.webp)

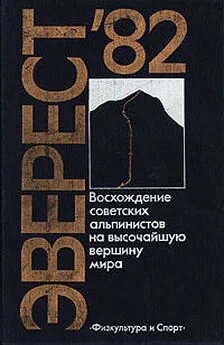





![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1087691/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy.webp)

