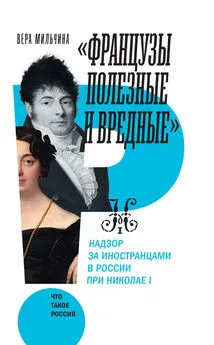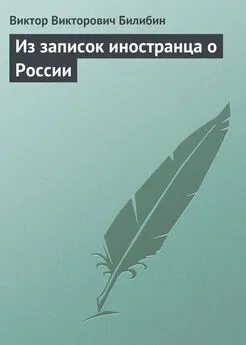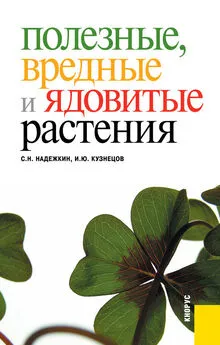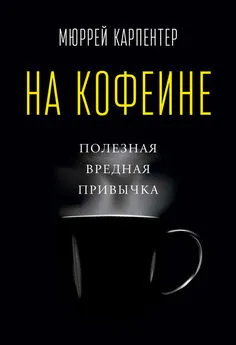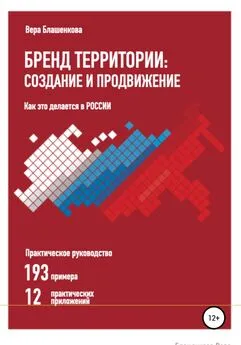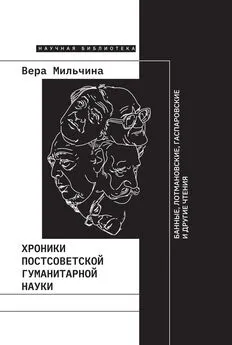Вера Мильчина - «Французы полезные и вредные». Надзор за иностранцами в России при Николае I
- Название:«Французы полезные и вредные». Надзор за иностранцами в России при Николае I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-08443
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Мильчина - «Французы полезные и вредные». Надзор за иностранцами в России при Николае I краткое содержание
«Французы полезные и вредные». Надзор за иностранцами в России при Николае I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из-под маски учтивости и цивилизованности, какую с грехом пополам нацепила на себя Россия, выступает старая Московия, выходит на свет допетровское варварство.
Разумеется, такие статьи огорчали и раздражали императора. Тщетно Барант через третьих лиц давал понять, что редакция «Журналь де Деба» независима от правительства и что правительству может быть выгодно содержать газету, чьим мнением оно не вправе распоряжаться. «Впрочем, – меланхолически замечает Барант в донесении 4 апреля 1836 года, – эти тонкости представительного правления в Санкт-Петербурге малопонятны». В Санкт-Петербурге предпочитали действовать более привычным способом, и Яков Николаевич Толстой, посланный в Париж номинально как представитель Министерства народного просвещения, а фактически как агент III Отделения, призванный нейтрализовать антирусские материалы французской прессы, искал способы подкупить «Журналь де Деба» и помещать в ней статьи в прорусском духе – впрочем, безуспешно (подкупить Толстому удалось целый ряд легитимистских газет и газет без четкой политической направленности).
Конечно, если верить «Обзору деятельности III Отделения за 25 лет», российские власти в конце концов пришли к убеждению: «Для могущественной Империи гордое молчание есть лучший ответ на придирки мелких клеветников». И тем не менее «мелкие клеветники», особенно когда писали во Франции и по-французски, доставляли русским властям немало неприятных минут. А ведь обижаются только на того, чьим мнением дорожат.
Если уж сам император был в определенном смысле неравнодушен к Франции, то понятно, что к ней не утратили интереса и его подданные (о том, что отношение николаевского двора к Франции зачастую было гораздо более сочувственным, чем отношение самого Николая, с надеждой в 1830-е годы писали послы Франции в России; одно из таких свидетельств приведено ниже, в донесении маршала Мезона, с. 196). О спросе в России на французов разных специальностей свидетельствует тот факт, что в Париже в начале 1840-х годов открывались специальные конторы, предлагавшие «сведения любого сорта» о России и информировавшие о том, что нужно предпринять французам, намеренным отправиться в эту страну в качестве врача, архитектора, художника, учителя, преподавателя языка и проч.; конторы эти рекламировали свои услуги в парижских газетах. Высокопоставленный сотрудник III Отделения, чиновник для особых поручений Адам Александрович Сагтынский (1785–1866) в своей записке о поездке в Париж в мае 1839 года утверждал:
Вообще ничто так хорошо не доказывает, что общественный дух во Франции нам не враждебен, как выражаемое всеми и во всякое время желание обосноваться в России. Можно сказать без преувеличения, что две трети французов, владеющих каким-либо полезным или приятным ремеслом, имеют подобные намерения и при малейшей надежде на успех попытались бы их осуществить. Всякий, кто произвел на свет нечто замечательное или необыкновенное, обращает свой взор в сторону России.
Сагтынский пишет о предложении услуг; но предложение позволяет нам судить о спросе, который, следовательно, был весьма значителен. Русские нуждались во французах и Франции. Франция и, главное, Париж по-прежнему воспринимались как законодатели моды и вкуса, а поездка в Париж – как величайшее удовольствие. Эжен Гино, автор очерка «Русский» в сборнике «Иностранцы в Париже» (1844), резюмировал ситуацию следующим образом:
Российское правительство очень неохотно выдает паспорта, особенно если цель путешествия – Франция; оно боится, как бы его подданные не заразились нашими идеями, а между тем, по странному противоречию, оно поощряет все французское, как подлинное, так и поддельное; оно призывает в свои владения наших промышленников и наших художников; оно желает, чтобы здания в России строили наши архитекторы, а украшением галерей занимались наши живописцы, которых оно вознаграждает с царской щедростью; оно без устали подражает нашим модам и нашим обычаям; наконец, оно официально изъясняется на нашем языке и призывает поступать точно так же представителей высших слоев общества ‹…› Как же могут русские не стремиться попасть в ту страну, которая служит для них примером и беспрестанно посылает им самые блестящие образцы своей продукции?
Впрочем, официально это удовольствие было дозволено не многим. Даже родному брату, Михаилу Павловичу, император не позволил в 1837 году поехать в Париж, хотя великий князь очень этого хотел. Не побывал во Франции и цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II), в 1838–1839 годах совершавший поездку по Европе; цесаревичу император запретил даже появиться на балу, который французский посол Барант дал в Петербурге в первый день нового, 1840 года. Правда, и на самом верху находились люди, которые ради жизни в Париже осмеливались ослушаться высочайшей воли: в 1837–1838 годах сестре шефа жандармов Бенкендорфа княгине Ливен настоятельно рекомендовали вернуться из Парижа на родину, а она сопротивлялась всеми силами – и так и не выполнила предписания (об этом см. подробнее в главе тринадцатой).
Что же касается простых подданных, в 1839 году, согласно отчету III Отделения,
все начальники губерний поставлены [были] в непременную обязанность не выдавать паспортов российским подданным на проезд во Францию без предварительного каждый раз сношения с III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии о лицах, желающих туда отправиться. Таким образом, в течение второй половины истекшего года разрешено [было] снабдить паспортами во Францию 16 лиц. На вступившие же от военных генерал-губернаторов просьбы некоторых молодых людей о дозволении отправиться в Париж для усовершенствования себя в науках разрешения не дано, по тому уважению, что нравственное образование там юношества не позволяет ожидать хорошего влияния на молодых и неопытных людей.
В 1843 году положение улучшилось, но крайне незначительно: разрешение выехать во Францию было выдано 74 лицам.
Имелись и другие ограничения. Принятый 17 апреля 1834 года закон «Об ограничении пребывания русских подданных в иностранных землях» ограничивал этот срок для дворян пятью годами, а для остальных сословий – тремя; по истечении этого срока необходимо было хотя бы ненадолго вернуться в Россию; нарушителям грозила конфискация имущества.
Тем не менее, как почти всегда случалось в России, реальная жизнь развивалась не в полном соответствии с законами. Несмотря на все сложности, в 1832 году в Париже, согласно отчету префекта полиции министру внутренних дел, проживало 310 русских подданных, а в 1839 году их число достигло 1830. 9 апреля 1838 года А. И. Тургенев пишет П. А. Вяземскому из Парижа:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: