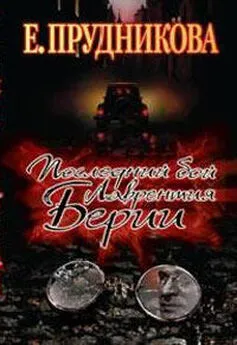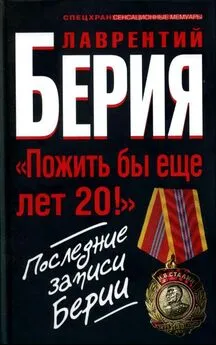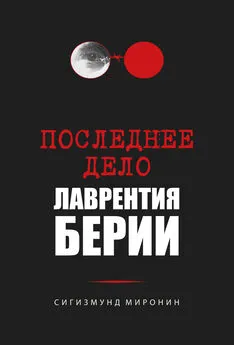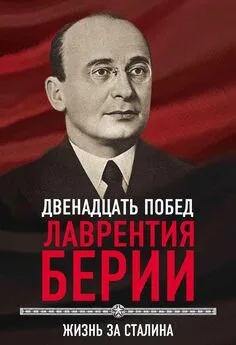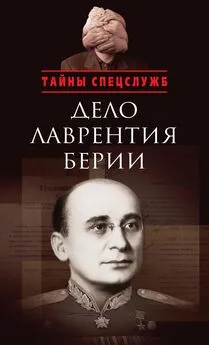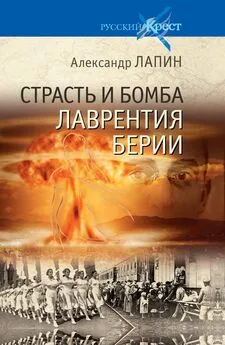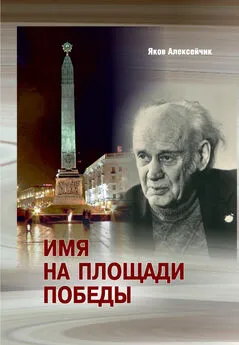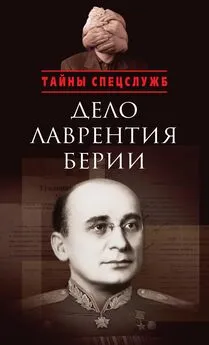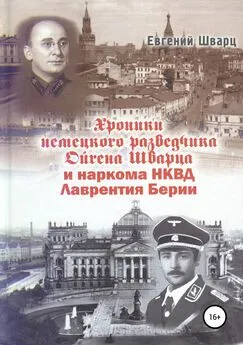Яков Алексейчик - Белорусская промашка Лаврентия Берии
- Название:Белорусская промашка Лаврентия Берии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Алексейчик - Белорусская промашка Лаврентия Берии краткое содержание
Белорусская промашка Лаврентия Берии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Завершился доклад при полном молчании зала. Да и вряд ли могли последовать аплодисменты после столь мрачной картины, нарисованной человеком, которому предстояло стать новым главой ЦК. Притом ожидать от людей, которые считали, что в целом они успешно преодолевают послевоенную разруху и ещё совсем недавно не раз слышали, в том числе от высоких представителей Москвы, иные оценки на сей счёт. Но вот представлен новый политический и экономический пейзаж, а вскоре, не исключено, может начаться поиск и наказание виновных, в том числе и среди сидящих в зале. Не улучшало настроения участникам Пленума и приглашённым на Пленум и то, что такая резкая критика прозвучала из уст человека, который ещё каких-то два месяца назад был в республике одним из руководителей и процесса хозяйственного восстановления, и определения методов дальнейшего подъёма экономики и культуры, и, конечно же, подбора кадров. Ещё на похороны Сталина Патоличев и Зимянин приезжали как белорусские партийные руководители, правда, у гроба вождя стояли по обе его стороны, лицом к лицу. Кроме того, трудно было сразу же принять на веру и то, что Патоличев, с которым они работали уже три года, замеченный и выдвинутый самим Сталиным, вдруг оказался столь неспособным.
Конечно, все понимали, что против такого, например, факта, что лекции в высших учебных заведениях читаются в основном на русском языке, не попрёшь, но не попрёшь и против того, что в Минске нет кадров, способных заменить всех преподавателей на белорусскоязычных. Например, на только что открытом архитектурном отделении Белорусского политехнического института, который ещё носил имя Сталина, читают лекции, ведут семинарские занятия в основном люди, приглашённые из Москвы и Ленинграда, поскольку своих преподавателей попросту нет. Они знали также, что в западных областях республики, где только после войны появились институты и техникумы, доморощенных кадров в достаточном количестве и не могло быть. В то же время вышедшеее постановление главного партийного штаба следует выполнять.
Оказавшись между стенкой реалий и скамейкой требований, да ещё столь неожиданных и жёстких, собравшиеся в зале пребывали в некотором недоумении, что не могло не сказаться на содержании прений по докладу. Тем не менее, не отрицая положений постановления ЦК КПСС, они всё же не торопились валить всё на одного человека, хотя имя его уже было названо в том самом постановлении, подписанном главным начальством большой страны. Это стало очевидным с первых же выступлений. А обсуждение началось назавтра в полдень с 12 часов дня. Вечер, скорее всего, был использован участниками Пленума для приватного обсуждения свалившихся им на голову столь неожиданных обстоятельств.
Первым выступил В. Е. Лобанок — партийный руководитель существовавшей тогда Полесской области, центром которой был Мозырь, человек, известный всей республике, Герой Советского Союза, во время войны командовавший Лепельско-Полоцкой партизанской зоной, единственный из партизанских командиров награждённый полководческим орденом Суворова. Свою речь он построил на самокритике и констатации того, что ученики в Мозыре разговаривают по-белорусски, а учителя по-русски, белорусские школы — только на окраинах города. Предъявил претензии к писателям — они редкие гости, к управлению кинематографии министерства культуры — поздно прислали в область фильм “Павлинка” на белорусском языке, к Академии наук БССР — в области никакой работы она не ведёт. Отметил, что ЦК КПБ и Совет Министров республики “шаблонно” руководят регионами, что мало заботы об укреплении хозяйств кадрами специалистов. Патоличев в выступлении Лобанка не был упомянут ни разу.
Вторым к трибуне вышел первый секретарь Брестского обкома партии Т. Я. Киселёв и продемонстрировал тот же подход. В зале царит молчание.
А вот выступление выступление Якуба Коласа воспринято с живостью. Классик говорил о том, что на дорогах не увидишь надписей на белорусском языке, что белорусский язык изгнала даже Академия наук. Позвонил он как-то в издательство и спросил по-белорусски: ‘Тэта Дзяржвыдавецтва?”. В ответ услышал по-русски: “Нет, это Госиздат”. Существует разнобой в белорусском правописании. Работников “Звязды”, которая тогда была главной газетой в республике, органом ЦК КПБ и Совета Министроов БССР, по мнению классика, надо сечь розгами. Это у них “роковая любовь” при переводе на белорусский языке превратилась в “раковую”. В зале смех и бурные аплодисменты. О Патоличеве тоже ни слова. Не упомянул классик и о постановлении ЦК КПСС, из-за которого собрался Пленум.
Девятым на трибуну пошёл сам Николай Семёнович. Он не мог не понимать, что то молчание — за него. Признав, что постановление Президиума ЦК КПСС “правильно вскрывает в Белоруссии наличие крупных извращений ленинско-сталинской политики нашей партии, недостатки и ошибки в работе Центрального Комитета и Совета Министров Белоруссии”, без чего обойтись было нельзя, кое о чём он всё-таки напомнил собравшимся в зале. Во-первых, о том, что отнюдь не он начал “практику посылки работников из восточных областей и других республик Советского Союза (в западные регионы республики. — Я.А.), сделав эту форму исключительной”, она “проводилась все годы, начиная с воссоединения Западной Белоруссии”. В этих словах — намёк и на то, что такая политика была одобрена на всех уровнях и появилась, как говорится, не от хорошей жизни. Других кадров там попросту не было. Иное дело, что и здесь допускались перехлёсты, например, “какая была необходимость даже низовой аппарат подбирать не из людей некоренной национальности”.
Во-вторых, Патоличев признал, что “национальный момент при подборе руководящих кадров, да и не только руководящих, потерялся и в расчёт почти никогда не принимался”, и если “в составе министерств, заместителей председателя Совета Министров, первых секретарей обкомов партии, председателей облисполкомов всё же большинство белорусов, в этом никакой заслуги Центрального Комитета нет. Это сложилось произвольно. У нас есть большая группа руководящих работников, о которых трудно сказать, если не посмотреть в анкетные данные, кто они по национальности — белорусы или не белорусы”. Он давал понять, что против сложившейся ситуации никто не возражал, поскольку она устраивала всех, делу не мешала, так как в расчёт принимались, в первую очередь, деловые, профессиональные качества.
В-третьих, “делопроизводство в государственном аппарате было переведено на русский язык. одни говорят. в 1936 году, другие, что в 1937”, а не по команде Патоличева. За этим “решающим мероприятием последовали другие. Преподавание в вузах стало вестись на русском языке, количество белорусских школ сократилось. Руководящие работники в этом деле показывали плохой пример — они своих детей учили не в белорусских школах”. Критику за это, сформулированную в докладе, он отнёс, конечно же, прежде всего, к себе, но заметил, что “к великому сожалению, ни в Центральном Комитете КП Белоруссии, ни в Совете Министров республики не оказалось среди нас такого человека, который бы хоть в какой-то степени, хоть в какой-то форме предостерегал Центральный Комитет от таких ошибок”. Притом Патоличев уточнил, что говорит “о работниках ЦК и Совмина, которые вместе со мной эти три года работали и возглавляли Компартию”. Здесь просматривался явный намёк и на Зимянина, который совсем недавно был его правой рукой в ЦК. Мол, почему не бил тревогу, если это так неправильно, ведь он, Патоличев, человек приезжий, как раз и полагался на то, что местные кадры лучше знают настроения населения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: