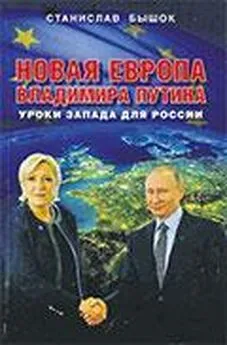Литературная Газета - Литературная Газета, 6609 (№ 32–33/2017)
- Название:Литературная Газета, 6609 (№ 32–33/2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Литературная Газета - Литературная Газета, 6609 (№ 32–33/2017) краткое содержание
Литературная Газета, 6609 (№ 32–33/2017) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обесчещенная Валентина даёт урок не своим несчастьем, не «позором», а устоявшей после жестокого насилия душой, её немеркнущим светом. Будет ли она счастлива в жизни? Бог весть. Пока о ней можно сказать определённо одно: она изменила судьбу каждого героя пьесы. Шаманову отныне стыдно оставаться трусом. Пашка убедился, что насилие над другим человеком опасно прежде всего для самого насильника. Это он обесчещен, выставлен у позорного столба. Кашкина поняла умом зрелой, хоть и недалёкой женщины, что мелкая душа не найдёт тепла у другой души. Помигалов увидел воочию, что дочь никогда не будет жить по его замшелым правилам, что её характер благородней, выше, чем у него, бывалого человека. Хороших окончательно убедилась, что сын её Пашка не достоин мизинца этой девушки, а Дергачёв, отчим насильника, ясней осознал несчастье своей распадающейся семьи. Еремеев удостоверился в том, что понял уже в первый день, как вышел из тайги в посёлок: здесь, в Чулимске, самый родной ему не по крови, а по душе человек – это Валентина. Ну вот и решайте теперь: правда ли то, что любовь Валентины, тайная, робкая, почти детская, произвела переворот в чувствах и мыслях людей, преобразила жизнь вокруг? И не встала ли эта героиня рядом с Татьяной Лариной, Асей, Наташей Ростовой, Грушенькой, Аксиньей Астаховой, другими светлыми героинями русской классики?
В «Старшем сыне» после злобного выкрика Сильвы в сторону Сарафанова, что Бусыгин вовсе не сын его, старый музыкант обмирает: «Что такое?.. Что это значит?» Бусыгин подтверждает: «Я вам не сын. Я обманул вас вчера». Вся последующая сцена – это возгласы Сарафанова, не верящего неожиданному признанию, ошарашенного, потрясённого, почти смертельно раненного: «Это невозможно… Не верю. Быть этого не может!» «Значит, ты мне… Выходит, я тебе… Как же так?.. Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!» И когда Бусыгин простодушно признаётся: «Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын», – Сарафанов твёрдо, как заклинание, втолковывает домочадцам, да и всему миру: «Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!»
И далее – великий монолог, «голос свыше», наставляющий нас, неразумных, не усвоивших Божье указание, забывших, что все мы на земле – братья:
«Сарафанов. То, что случилось, – всё это ничего не меняет. Володя, подойди сюда.
Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов – все рядом. Макарская в стороне.
Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (Всем троим.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное…»
«Где ты живёшь», – спрашивает обретённого «сына» музыкант. – «В общежитии». – «В общежитии… Но ведь это далеко… и неуютно. И вообще терпеть не могу общежитий… Это я к тому, что… Если бы ты согласился… словом, живи у нас». – «Нет, что вы…» – «Предлагаю от чистого сердца… Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори». И в конце – твёрдо: «Володя, я за то, чтобы ты у нас жил – и никаких».
Вероятно, так и будет. Во всяком случае, последние слова Бусыгина окрашены радостью: «Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку».
Андрей Румянцев
АФОРИЗМЫ ВАМПИЛОВА
Крупный писатель всегда афористичен. Иногда афоризмы робко и неприметно поблескивают в тексте, а порой – щедро рассыпаны по страницам.
Прозаику можно простить многословие, драматург же просто обязан выражаться лаконично и ёмко, ведь пьеса предполагает быстрое и живое реагирование. Драматург несёт повышенную ответственность и за грусть, навеянную на читателя, и за улыбку, вызванную у него.
Александр Вампилов, как никто другой, осознавал это. Его афористичные цитаты не только образец высокого мастерства, но и средоточие какой-то особой, горькой мудрости.
▪ Юмор – это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи…
▪ Счастливый человек всегда в чём-нибудь виноват. Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив.
▪ Не дай Бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову.
▪ Цифры хорошо запоминают не умные, а жадные.
▪ Виноватыми всегда бывают нелюбимые.
▪ Всё порядочное – сгоряча, всё обдуманное – подлость.
▪ Молодость даётся нам для эксперимента, а не для прозябания.
▪ Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди.
▪ Зубная боль – самое жестокое из человеческих страданий. Ада нет, но в каждой больнице есть дверь с табличкой «Зубной врач».
▪ У дураков всегда больше принципов.
▪ Не обманываясь, скучно жить. Человеку необходимы иллюзии – для радостей, для восторгов, для наслаждений.
▪ Лжёт каждый, а любят тех, кто лжёт лучше.
▪ Вы понесёте ответственность за свою вопиющую безответственность.
▪ Идиоты не переводятся – они совершенствуются.
Возрождение «маленького человека»
Возрождение «маленького человека»
Литература / Литература
Теги:Александр Вампилов
Попробую не о месте драматурга Вампилова, но о новаторстве его драматургии.
В пьесах со временем меняются две главные, связанные между собой вещи - конфликт и герои. Эти перемены происходят, когда меняется само общество, как нас учили на марксизме «социально-экономическая формация». Разумеется, случается это не «день в день», должно пройти время, чтобы литература не только почувствовала, но и осознала происходящее. Так победивший капитализм невольно привел в театр «новую драму» - Ибсена, Чехова. Конфликт человек-человек заменился конфликтом человек – общество. После античной трагедии общей необходимости и ренессансной трагедии индивидуального начала – это конфликт между индивидуальным началом и объективной необходимостью.
Метерлинк говорит, что в противоположность исключительным коллизиям прежних пьес, надо писать о трагизме повседневной жизни. Герой стал существенно «мельче» - разорившийся дворянин, разночинец, даже разбогатевший крестьянин. Не знаю, куда бы пошла русская драма дальше, если бы революция ее не остановила. Потребовался Герой с большой буквы. Стали нужны поступки и свершения. Дядя Ваня оказался в прямом смысле лишним человеком на сцене: у Чехова ему позволялось быть, а вот советским драматургам его коллизии вменялись в мелкотемье.
Столь любимых современным российским театром героев «новой драмы» отличали повышенные нравственные требования и обязательные мечты о лучшей жизни. Это роковое сочетание неизбежно приводило их к мысли о неизбежности переустройства жизни.
Этого героя – «маленького человека», только уже нового, советского, вернул в драматургию Вампилов. Однако время было совсем другое. ХХ съезд похоронил идею социального переустройства общества, тем самым, отняв у героев пьес последнее призрачное утешение. Капитализм - откройте книгу любого великого писателя XIX – XX веков - ужасен, но и социализм показал свое нечеловеческое лицо. Мечтать стало не о чем. И тут появляются два таких абсолютно разных, но, по сути, парадоксально схожих драматурга как Г. Пинтер и А. Вампилов. Одинаково враждебный мир окружает их героев, а человек, в конечном счете, безволен и подчиняется жестоким обстоятельствам. Можем ли мы сказать про героев их пьес, что они проигрывают? Безусловно. Но проигрывает только тот, кто участвует в игре. Эти герои – герои своего времени, они еще не отвернулись от общества, не пришло время, и поэтому социальная ненужность так их ранит, поэтому исходит от них ощущение неприкаянности. Все их попытки выстроить хотя бы личные отношения кажутся призрачными, будто происходят во сне, даже если это герои «Старшего сына» - настанет утро и все исчезнет, добрые слова забудутся, человеческие связи порвутся, и в резком утреннем свете никто никого не узнает. Поэтому они не могут любить. Стремятся, хотят, но не могут. Оборванные социальные связи, выпадение из общества в том, советском контексте, лишили их сил, ибо тогда быть вне (необязательно официального, советского, но какого-то «своего», можно и антисоветского) значило не быть. Почему же мы – читатели, зрители так их неудачливых любим? Герои Вампилова постоянно чувствуют свою вину. Не только за свою никчемную жизнь, за всю тоску и бессмыслицу кругом. Тем самым эти полукомедии становятся трагедиями. А их мелкие, лживые, раздражительные герои – героями трагическими. Потому что трагический герой, говоря словами Ролана Барта, «невиновен от рождения. Он берет на себя вину, дабы спасти Бога».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: