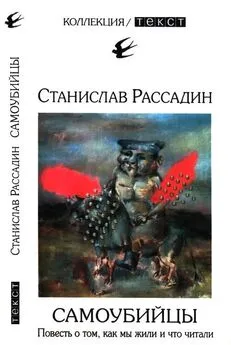Станислав Рассадин - Советская литература. Побежденные победители
- Название:Советская литература. Побежденные победители
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инапресс. Новая газета
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-87135-179-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Рассадин - Советская литература. Побежденные победители краткое содержание
Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.
В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.
Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.
Советская литература. Побежденные победители - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И — хватит (пока) о таких. Вернемся на съезд, к докладу Бухарина, к избранной им поэтической троице. Вернее, к тому, чт о и ког о противопоставил Бухарин этим поэтам, в которых видел именно поэтический прорыв в новое качество — при всех идеологических претензиях к ним, без чего старый партиец все же не мог. Фигурой противостояния был Маяковский, чья агитационная поэзия «уже не может удовлетворить… она стала слишком элементарной… сейчас требуется больше многообразия, больше обобщения… даже самое понятие актуальности становится уже иным».
Чт о началось!
На Бухарина навалился безмерной тушей Демьян Бедный, в миру — Ефим Алексеевич Придворов (1883–1945), чьи агитки докладчик тем паче списал в невозвратное прошлое; впрочем, Демьян, ненавидевший Маяковского, заодно обвинил Бухарина и в преувеличении его роли (Николай Иванович, критикуя, отвел как-никак Маяковскому роль советского классика). Но, казалось бы, неожиданней было выступление поэта Александра Алексеевича Жарова (1904–1987).
Этот комсомольский кумир, по своей популярности многократно превосходивший Маяковского, был презираем тем до такой степени, что он называл его не иначе как Жуткин , создав таким образом парную кличку для Жарова и Иосифа Павловича Уткина (1903–1944), двух будто бы неразличимых «комсомольцев». «Будто бы» — потому что Уткин при всей своей, как сказали бы нынче, «попсовости», был неизмеримо талантливее своего приятеля-близнеца. И вот Жаров, которому в бухаринском докладе досталось за примитивность, заступается перед ругателем нынешним за ругателя покойного. Заявляет, что «время лучших так называемых агиток Маяковского еще не прошло и пройдет не скоро», заодно намекнув, что троим любимцам докладчика далеко до популярности этих «агиток». А выступивший следом Алексей Александрович Сурков (1899–1983), Маяковского также не жаловавший, расшифровывает намек: «Для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б. Л. Пастернака — неподходящая точка ориентации в их росте».
Чем срывает аплодисменты.
Сражались не за Маяковского. Сражались за свое право писать «агитки», не свыше и не сложнее того, уподобляясь, уж разумеется, не автору поэм Про это (1923) или Во весь голос (1930), где был явлен и реализован поистине великий талант. Не тому, кто, как раз и признавшись в последней поэме: «И мне / агитпроп / в зубах навяз../ Но я / себя / смирял, / становясь / на горло / собственной песне» (причем именно признавался , признавал мучительность насилия над собой), в черновике продолжения доказывал, вольно или невольно, сколь неуступчивым оказывается горло. Сколь непросто перехватить его вольное дыхание: «Любит? не любит? Я руки ломаю / и пальцы / разбрасываю разломавши / так рвут загадав и пускают / по маю / венчики встречных ромашек / пускай седины обнаруживают стрижка и бритье / Пусть серебро годов вызванивает / уймою / надеюсь верую вовеки не придет / ко мне позорное благоразумие».
И тем более: «Я знаю силу слов я знаю слов набат / Они не те которым рукоплещут ложи / От слов таких срываются гроба / шагать четверкою своих дубовых ножек / Бывает выбросят не напечатав не издав / Но слово мчится подтянув подпруги / звенит века и подползают поезда / лизать поэзии мозолистые руки».
«Тем более» — потому что произошло, казалось бы, невозможное. В молодости Маяковский был до отчаяния раздосадован, что на игрушечных выборах Короля Поэтов его победил Игорь Северянин (о еще жившем Блоке тогда никто и не вспомнил). В зрелости он решительно все, вплоть до собственного своеобразия, был готов отдать ради его признания массами. И вот: «не напечатав не издав». Высказанная готовность существовать так же, как готов был существовать — и существовал! — во всех отношениях чуждый Маяковскому Максимилиан Волошин: «…Почетней быть твердимым наизусть / И списываться тайно и украдкой. / При жизни быть не книгой, а тетрадкой».
К несчастью, неизбежен вопрос: а что, если бы потрясающие строки так и не вышли из рабочей книжки, остались недопущенными к «большому читателю»? Ведь случилось же подобное с «американским» стихотворением Домой! (1925). В печати закончившееся пожеланием: «о работе стихов, / от Политбюро, / чтобы делал доклады Сталин» (тот, кто как раз и рукоплескал угодным ему мастерам искусств из правительственных лож), в черновом варианте оно имело другой финал. И отсутствие обычной для Маяковского «лесенки», как и знаков препинания, словно подчеркивало растерянную незавершенность размышления — один из признаков его подлинности: «Я хочу быть понят моей страной / а не буду понят что ж / по родной стране пройду стороной / как проходит косой дождь».
Потом Маяковский объяснит причину изъятия: «Ноющее делать легко… Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик… Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки выдрал».
Чем не обесхвостил, а обезглавил стихотворение, лишив его выявления драмы поэта, вечно носимой в душе.
Как бы то ни было, Бухарин, чересчур рафинированный и для партийной среды, и для общей массы писательского съезда, браня Маяковского не конкретно за нечто подобное, все же имел в виду как раз тенденцию превращения собственно поэзии (как, выражаясь банально, способа самовыявления личности) в прямолинейное средство «агитации и пропаганды». Пусть и в варианте мастеровитом, недоступном ни Бедному, ни тем более Жарову.
Не зря слова недавнего Любимца Партии — о том, что «„агитка“ Маяковского уже не может удовлетворить» и т. п., — адресовались тому, кто этого «не видит». Николаю Николаевичу Асееву (1889–1963), «наиболее ортодоксальному „маяковцу“, труженику стихотворной формы, неутомимому поэту-агитатору».
Выглядя похвалой, это звучало не только укоризненно, но — невольно — и драматически. Ибо Асеев, по злому словцу Сельвинского, превратившийся в «деталь монумента» при заживо забронзовевшем Маяковском, был изначально поэтом совсем иной породы: «Я лирик / по складу своей души, / по самой строчечной сути» (поэма Свердловская буря , 1926). Беда, однако, в том, что именно эта поэма, начавшись таким заявлением, продолжает свое течение совсем в ином русле, будто намеренно демонстрируя, как можно — и следует — наступать на свое пульсирующее лирическое горлышко. Отчего в немалом асеевском наследии — в частности, сильной при всех оговорках поэме Маяковский начинается (1940) — приходится выискивать, выбирать признаки действительно оригинального таланта среди поставленной на поток продукции «неутомимого поэта-агитатора».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
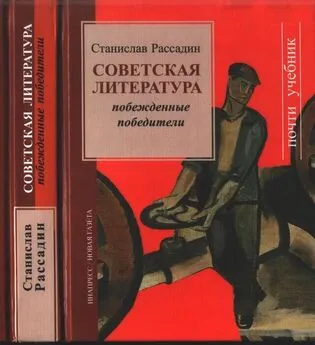

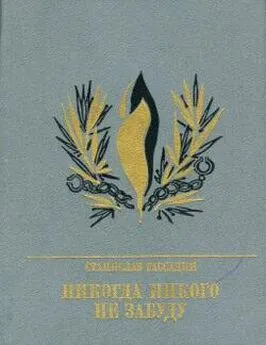


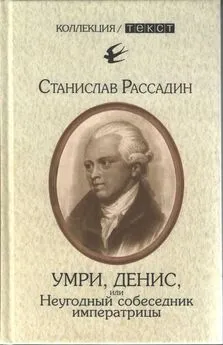

![Дмитрий Быков - Советская литература: мифы и соблазны [litres]](/books/1068513/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn.webp)