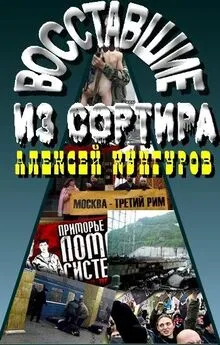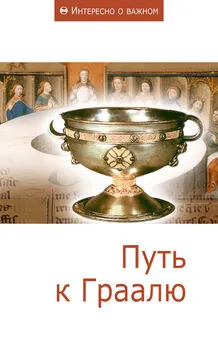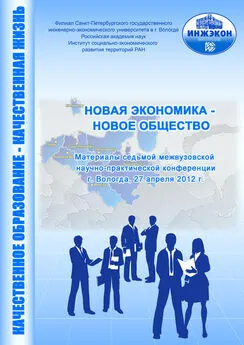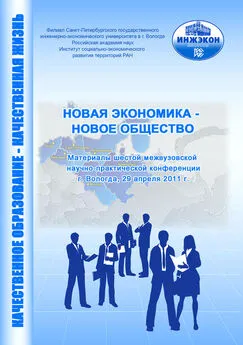Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI
- Название:Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0441-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник статей - Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI краткое содержание
Пути России. Новый старый порядок – вечное возвращение? Сборник статей. Том XХI - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Согласно Шмитту, надежда, что из технического изобретательства разовьется политический господствующий слой, неоправданна, поскольку нейтральность техники – нечто иное, нежели нейтральность всех предшествовавших областей: «…Сама техника остается, если можно так сказать, культурно слепой. Поэтому из чистого не-что-иное-как-техника нельзя извлечь ни одного из тех следствий, которые обыкновенно выводятся из центральных областей духовной жизни: ни понятие духовного прогресса, ни тип знатока или духовного вождя, ни тип определенной политической системы» [118]. Особенность техники в том, что ею может воспользоваться любая сильная политика, ее кажущаяся нейтральность оборачивается как во благо, так и во зло. С позиции Шмитта ход мысли, полагающий технику «нейтральной» сферой, ведет только к вредным и опасным иллюзиям, поскольку такая нейтрализация предполагает собой и кажущуюся деполитизацию. На деле же на почве техники также может возникать разделение на «друзей» и «врагов», являющееся, по Шмитту, специфически политическим противостоянием, предельное выражение которого война.
Почему вопрос о суверене и суверенитете оказывается таким важным для Шмитта? Потому что в его концепции суверенитет – это сущность государства. Государство является таковым, если может объявить чрезвычайное положение, т. е. принять решение о собственной судьбе, ведь под чрезвычайным положением следует понимать любые решения о государстве, а не только исключительные. Показательно и то, что Шмитт называет суверена «гарантом конституции», который создает ситуацию нового порядка.
Шмитт совершенно верно отмечает, что норма не может воплотиться в действительность самостоятельно, для этого необходима чья-то воля и чье-то решение. Правовая идея не способна саму себя провести в жизнь; конкретные факты следует трактовать на основании правовых принципов, и делает это всегда кто-то, при этом правовая идея не несет в себе предписания, кто должен ее применять. Это должна быть некая компетентная инстанция, обладающая авторитетом. При этом сама по себе формула права «как норма решения только определяет, как должно решать, но не кто должен решать» [119]. Этим кем-то и будет суверен, значимость решения которого не в аргументации, а в авторитарном устранении сомнения, возникающего из возможных, противоречащих друг другу аргументаций. Это не вопрос осведомленности и не простое добавление к норме, это вопрос воли, а деятель здесь не эксперт.
Суверен создает «нормальную» ситуацию, являющуюся предпосылкой того, что нормы вообще могут быть значимы, «ибо всякая норма предполагает нормальную ситуацию, и никакая норма не может быть значима в совершенно ненормальной применительно к ней ситуации» [120]. Это значит, что основной функцией суверена является разрешение кризисной ситуации, после чего устанавливается новый порядок, а любые чрезвычайные полномочия должны прекратить действие (за исключением так называемой «премии за обладание властью», но шмиттовский суверен здесь ничем существенно не отличается от любого носителя власти). Новый порядок предполагает новую разметку политического пространства, а также то, что новый закон в дальнейшем будет значим и для того, кто принимает решение о его установлении. По этой схеме тот, кто был сувереном, должен встроиться в новый порядок, иначе система не сможет работать.
Итак, суверен совершает не просто интеллектуальное, умственное действие, но принимает решение, которое преобразует политическое пространство. В связи с этим возникают следующие вопросы: какие способы легитимации могут быть использованы, чтобы легализовать новый социальный порядок? Могут ли работать те, что применялись до кризиса? Иными словами, что будет дальше, после создания этого самого «нового порядка»? Ответы на эти вопросы не являются самоочевидными, поскольку приходится говорить о новой разметке политического пространства, о последующем наполнении его содержанием, в том числе и нормативным, которое не является очевидным из настоящего момента, будь то «нормальная» или кризисная ситуация. В этом, на наш взгляд, основная особенность чрезвычайного положения в шмиттовском его понимании.
Роман Устьянцев [121]
Доверие в «Государстве законодательства» Карла Шмитта [122]
В работе «Легальность и легитимность» (1932 г.) немецкий философ и юрист Карл Шмитт пишет, что «определенного вида политическое сообщество» с XIX в. стало «государством законодательства» [123]. К подобного вида государствам относится и современная Россия. Данный тезис требует пояснений. Государственную власть в нашей стране осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды, а носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ, что полностью совпадает с теми ключевыми институтами, которые описывает Шмитт. Кроме того, совпадает и вид власти, которой наделен глава государства. Хотя права президента Веймарской республики были несколько ограничены, у него была возможность устанавливать «чрезвычайное положение» [124], что позволяло ему при необходимости расширять свои властные полномочия.
Особенность таких государств состоит прежде всего в том, что они подчинены всеобщим, безличным нормативным установлениям, наиболее важными из которых являются в России – Конституция РФ, а в Германии – Конституция Веймарской республики [125]. По словам Шмитта, «в конечном счете уже никто не господствует и не приказывает, поскольку в обществе приводятся лишь безлично действующие нормы. Такое государственное образование находит свое оправдание во всеобщей легальности любого государственного исполнения власти» [126]. В государствах подобного рода все, кто имеет какое-либо отношение к исполнению государственной воли, отделены друг от друга. Законодатель не зависит от тех, кто применяет закон, а также от тех, кого Шмитт называет «беспристрастными третьими» [127]. В таких обществах «господствуют законы, а не люди, не какие-либо авторитеты и власти» [128]. Однако в таких государствах очень большую роль играет доверие как к законодателю, являющемуся выразителем воли, так и к той процедуре, благодаря которой он приходит к власти.
В настоящей статье предпринята попытка показать, как политическая теория К. Шмитта может помочь в интерпретации событий, происходивших в нашей стране после парламентских выборов 2011 г.
По мнению Шмитта, идея репрезентации народной воли в парламенте является ключевой для создания легитимного парламента. Первичной предпосылкой к данному процессу репрезентации служит отождествление воли парламентариев с волей народа [129]. «Воля народа» предстает совершенно в ином свете, когда мы включаем в данное понятие необходимость доверия к законодателю и безоговорочную поддержку по всем решениям, которые он принимает. Шмитт описывает это следующим образом: «Законодатель – основа всего. Закон в полном приоритете. Нет конкуренции законодателей. Доверие к законодателю остается предпосылкой к любой конституции, которая организует правовое государство в форме законодательного государства. Без доверия – абсолютизм с открытым насилием» [130]. Иными словами, если мы принимаем того или иного законодателя, мы должны, в то же самое время, признавать его возможность создавать нормы, необходимые для поддержания существования законодательного государства. При этом хотя само понятие закона парламентского законодательного государства достаточно нейтрально, оно, тем не менее, все же должно включать в себя определенные качества, благодаря которым на него сможет опираться законодательное государство в целом. Среди этих качеств для нас наиболее важным является связь нормы права с государством, которое и будет обеспечивать ее выполнение. Поскольку любая демократия, как пишет Карл Шмитт, покоится на той предпосылке, что народ неделим, однороден, целостен и един, что для нее не существует никакого меньшинства или меньшинств [131], принятие того или иного закона распространяется на всех и перед законом и судом все равны [132]. Однако принцип равенства должен распространяться, как справедливо отмечает Шмитт, и на возможность получения власти политическим путем [133]. Если говорить более конкретно, то борьба ведется за достижение большинства, которое и будет принимать политические решения. Незаконно поступает и является тираном лишь тот, кто не имеет положенных 51 %, тот же, кто ими располагает, не совершает никакой несправедливости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: