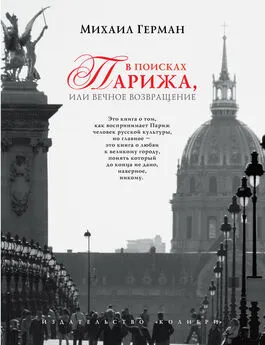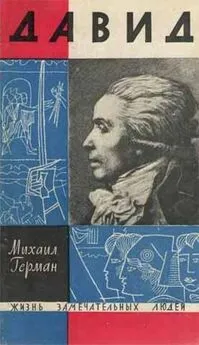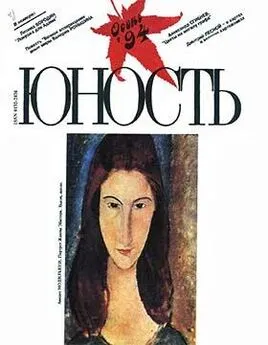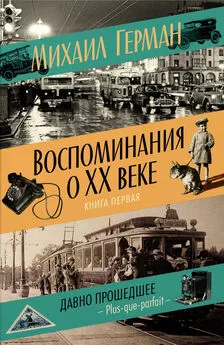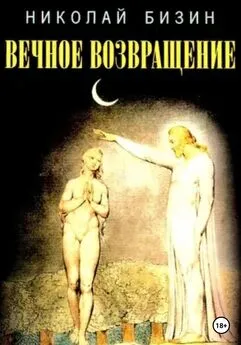Михаил Герман - В поисках Парижа, или Вечное возвращение
- Название:В поисках Парижа, или Вечное возвращение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аттикус»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-10035-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - В поисках Парижа, или Вечное возвращение краткое содержание
В поисках Парижа, или Вечное возвращение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По-моему, я был и остался единственным автором, отозвавшимся критически о Кабакове. Рассказывали, близкие художнику люди были в гневе. Не знаю.
Через несколько лет в Варшаве Кабаков открыл выставку, где были представлены разложенные на столах жалобы друг на друга жильцов коммунальных квартир (переводы на польский прилагались). На вернисаже, говорили польские коллеги, была «вся Польша». Потом выставка пустовала. Вовсе не хочу заниматься низвержением кумиров, но думаю: искусство, не имеющее рукотворного, эмоционального смысла, искусство, являющее собой, как принято нынче говорить, «послание», лишено дороги в будущее, тем более в вечность. А гипноз имени – он по сию пору служит Кабакову. Беды в этом нет, радости тоже. И приходится согласиться с известным суждением В. Хофмана: «Первоначальное сырье этого процесса – произведение искусства, готовый продукт – его истолкование».
Булатов был жесток и обжигающе лаконичен, система его метафор не покидала художественное пространство. Я долго смотрел на картину «Брежнев в Крыму» – реквием «лирическому официозу». И уже тогда не было особых сомнений касательно того, что еще через несколько лет ироническое умиление Булатова для многих зрителей и даже художников обернется самым натуральным умилением, истерической тоской по тому времени, которое еще только начали называть застоем…
Тогда меня покорил Оскар Рабин. Молчаливый, большой, он странно походил на Булата Окуджаву. Из его картин тогда уже исчезали политические аллюзии, осколки концептуализма плавились в чистом «веществе живописи», он все чаще писал непарадный, грустный Париж, похожий, по собственному его выражению, на «лохмотья короля». И вообще русский Париж впервые тогда мне открылся.
Обладай я приверженностью к сплетению своей жизни со знаменитыми именами, должен был бы горделиво уронить, что «был знаком с Синявским». А сюжет оказался до обиды суетным. В гостях у русского парижанина Алексея Яковлевича Береловича, известного слависта и переводчика Василия Гроссмана, я действительно был представлен величественному и отрешенному, вполне, кажется, уверовавшему в свою богоизбранность старцу – Андрею Донатовичу и его жене, Марии Васильевне Розановой. Кажется, Флобер говорил, что не следует прикасаться руками к идолам – на пальцах остается позолота. Созерцание руин гордости отечественного подвижничества – грустное занятие. Показывали видеофильм о Малевиче. Андрей Донатович смотрел на экран молча, с полузакрытыми глазами. Потом воскликнул, но очень тихо: «Да живет русский авангард!» После чего отбыл восвояси вместе с бодрой Марией Васильевной.

Вообще же знакомство с новой русской литературной эмиграцией ввергло меня в смущение. Мне по сию пору чудится: эти люди, талантливые, много перенесшие, не сломленные КГБ, ухитрились увезти с собой в Париж не столько возвышенную преданность литературе и русскому либерализму, сколько усталую мелочность советского быта. Скорее всего, суждение мое поспешно, несправедливо и продиктовано маниловскими представлениями о диссидентах, но уж слишком велик был контраст между былой героикой, так меня восхищавшей, и тем, что я видел теперь…
Пришел день телепередачи о Малевиче. Прямой эфир, ведущий – племянник Миттерана Фредерик (при Саркози он был министром культуры).
Тут-то я и увидел – впервые изнутри, – что такое современное французское телевидение. Ни репетиций, ни сценария. В числе участников – молодой Миттеран, Хюльтен, Задора и я. В качестве дивертисмента – одна весьма ныне известная наша певица, в ту пору страстно и не вполне разборчиво завоевывавшая Европу.
Студия – великолепная. Темное стекло, зеркала, мягкие и незаметные кресла – дорого, аскетично и просто, отменно поставленный свет. Миттеран манерами и костюмом избыточно изыскан, сочится ледяной приветливостью, спокойным и настойчивым профессионализмом. В русском изобразительном искусстве, и былом, и нынешнем, он не разбирался и вовсе того не скрывал. Ему это было не нужно. Истинный профи, чувствовавший зрителя и стиль момента, он сумел так четко построить в общем-то обычные вопросы, что каждый сказал свое и по делу, даже с некоторой остротою, – я видел потом передачу в записи и подивился. Она была профессионально срежиссирована и снята, но, к сожалению, с некоторым «матрешечным» акцентом, при котором французы неведомо как сохранили хороший ритм и даже вкус. Певица, правда, спела постельно-политическим баритоном: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез…» (Мандельштам) – что, по мнению ведущего, вероятно, как-то сочеталось с Малевичем. Французы, с которыми я потом разговаривал, остались довольны и передачей, и мной. Лестно было необычайно.
Изысканная самоуверенность заменяет на телевидении серьезность. Не только у французов, у нас примерно то же. Правда, без изысканности.
К сожалению, я почти не видел тех французов, на образах которых, отчасти и мифических, был воспитан. Была единственная, наверное, встреча – почти бесплотная, как мнимость или сюжет, скорее рассказанный мне, чем мною пережитый.
Когда я писал свои книжки о Домье и, позднее, о Ватто, главными, как принято говорить, источниками служили мне две отличные монографии. О Домье – Жана Адемара и о Ватто – его жены Элен Адемар.
И он, и она были известнейшими учеными, отличными стилистами и для меня, естественно, совершенными небожителями.
А в 1989 году мне случилось передать письмо из России парижанке, которая оказалась ученицей госпожи Адемар. Вся моя сентиментальная романтичность нежданно вскипела, я попросил о знакомстве. Мне передали просьбу госпожи Адемар позвонить ей, и вскоре я оказался в ее квартире, куда был приглашен на чашку чая.
Жан Адемар уже несколько лет как умер. Элен Адемар, дряхлая, но еще изящно-моложавая, какими в ее годы бывают лишь француженки, встретила меня с растерянным доброжелательством и чуть прохладной любезностью. Квартира решительно не походила на виденные мною прежде парижские дома. Книги до потолка – типично французские корешки, вперемежку бумажные и дорогая тисненая кожа, много фотографий (во Франции это редкость), темный, кое-где заметно пожухший лак не только старинной, стильной, но просто старой, именно здесь состарившейся, вовсе не музейной мебели, легкий запах – не тления, скорее, уходящего времени, чай в чуть тускнеющих, хорошего вкуса чашках, скромные пирожные.
Я почтительно преподнес хозяйке мои сочинения о Ватто (один альбом с английским текстом). Она смотрела на толстую книжечку «Антуан Ватто», напечатанную едва ведомой ей кириллицей, на меня – столь странного, не очень понятно почему пришедшего гостя – с усталым удивлением. Словно бы уже обращенная внутрь, в иные времена; ее юность приходилась ведь еще на эпоху Анатоля Франса и его Сильвестра Бонара, и отблеск тех, приверженных древним фолиантам и старинной культуре, времен лежал на темном дереве столика, где вздрагивали тонкие чашки, на книжных корешках – сверстниках академика Бонара и его кота Гамилькара.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: