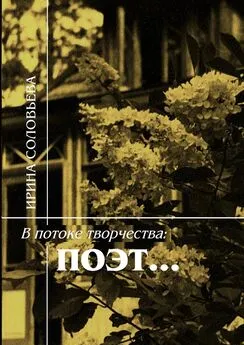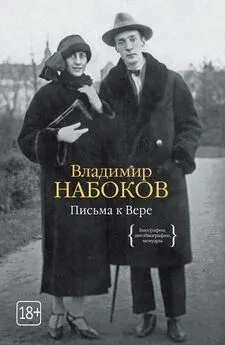Николай Мельников - Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников
- Название:Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0371-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Мельников - Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников краткое содержание
Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А набоковский перевод «Лолиты» – что бы ни думать о самом романе – ужасный с литературной точки зрения, тоже, на мой взгляд, недостойный Набокова.
Ваш Глеб Струве
Из дневника прот. Александра Шмемана, 16 января 1978
<���…> Искусство самоутвержденья , искусство – власть над словом, искусство без смирения. <���…> И потому искусство таланта (который все может), а не гения (который «не может не…»). В Набокове, может быть, и был гений, но он предпочел талант, предпочел власть (над словами), предпочел «творчество» – служению. Кривая таланта – от удачи к неудаче («Ада», поздний Набоков, которому так очевидно нечего больше сказать, ибо все возможные – в его таланте – удачи исчерпаны). Гений, даже самый маленький, ибо гений совсем не обязательно «огромен», – от неудачи к удаче (по-настоящему чаще всего – посмертной, ибо требующей отдаления или даже, по «закону» и «пути зерна», смерти и воскресения…). <���…>
Павел Гольдштейн – Глебу Струве, 17 января 1978
Дорогой Глеб Петрович!
Получил Ваше письмо-упрек, когда лежал в больничной палате Адассы, в отделении сердечно-сосудистых болезней. Немножко поболел, а теперь вроде все в порядке.
За письмо – благодарен Вам, ибо всегда следует прислушаться и остерегаться впасть в ошибку, которая может повести к заблуждениям гораздо более значительным. Не желая терять привычку внимательного отношения к прочитанному, решил перечитать ставший таким знаменитым роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», а перечитав, и надо признаться – с большим трудом, пришел к первоначальному впечатлению и к полному согласию с очень точной оценкой Владимира Набокова. Этот роман никоим образом нельзя сравнить с тем лучшим, что было сочинено Б. Пастернаком и чем он мне когда-то был дорог как поэт. <���…>
Нет в нем такой глубины, и я, прочитав эту книгу еще тогда, при первом выходе ее в свет, никак не мог понять, что там есть такого, отчего было так много шума. Ну, за рубежами Советской России такой шум был вполне понятен, и весьма характерна голливудская киноаранжировка этого романа с пикантным вальсом в виде, так сказать, перевода с языка собственного пафоса Б. Пастернака на язык западного обывателя. Что-то трудно себе представить вальс на тему «Процесса» Кафки или даже на тему располагающего по своему аллегорическому названию к такой музыкальной форме страшного по глубине «Приглашения на казнь» Набокова.
<���…> Как глубоко заметил Достоевский, «никто не проникался так нравами и пониманием склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирожденна ему, как истинно совершеннейшему выразителю русской души». Этой же способностью обладал, как истинно совершеннейший выразитель высот русской культуры, Владимир Набоков, которому в изображении в «Лолите» Америки или в «Король, дама, валет» – Германии мог бы позавидовать любой американский и немецкий писатель. В полной мере обладал и Исаак Бабель этой способностью в понимании склада души чуждого народа, ибо эта способность прирожденна ему была, как истинному выразителю еврейской души.
Борис Пастернак являл собою трагический пример совершенно противоположных свойств. Он настолько отступился от своего народа, что не только не дано ему было, как, впрочем, и многим другим, оторвавшимся от еврейства евреям, понять то, что своей глубочайшей интуицией провидчески понял русский мыслитель В.В. Розанов, – что «все сводится к Израилю и его тайнам», но даже паутинки не осталось, которая связывала бы его чем-нибудь с тем, кто, по его собственному выражению, «как воздух, нескончаем».
<���…> Я столь подробно остановился в связи с Вашим письмом на «Докторе Живаго», рассматривая роман и его автора в нескольких контекстах и направлениях, именно потому, что, получив всемирную известность, в отличие, например, от удивительного по глубине розановского «Апокалипсиса нашего времени», этот роман внес в мир ту смутность мысли, при которой все труднее становится людям понимать истину.
В Б. Пастернаке мыслитель был гораздо ниже поэта. А ведь как поэт, как писатель в свое время он был очень одинок. Не менее одинок и непонимаем, чем М. Цветаева, чем В. Набоков. <���…>
Глеб Струве – Павлу Гольдштейну, 26 января 1978
Дорогой Павел Юльевич!
Я получил вчера Ваше длинное заказное письмо. Вижу, что мой “упрек” Вас очень задел, раз Вы, несмотря на только что перенесенную серьезную болезнь, уделили моему письму столько внимания. Ответить сколько-нибудь пространно, к сожалению, не могу: 1) потому, что занят одной очень запущенной срочной работой, а 2) потому, что мы в каком-то смысле, мне кажется, пишем «мимо» друг друга. Постараюсь это вкратце объяснить.
К роману Пастернака я отношусь далеко не без критики. В нем с литературной точки зрения есть много промахов. Но под суждением Набокова – хотя и он, вопреки тому, что Вы, мне кажется, думаете, осуждал роман как литературное произведение (просто плохое), все другое в нем его просто не интересовало – подписаться не могу: вижу в нем все-таки и интересную и значительную вещь, хотя могу понять и ту критику, которой Вы его подвергаете (Набоков от нее просто отмахнулся бы – эта сторона, повторяю, его просто не интересовала). Приведу на всякий случай то, что Набоков написал мне в частном письме о романе: «Мне нет дела до “идейности” плохого провинциального романа – но как русских интеллигентов не коробит от сведения на нет Февральской революции и раздувания (sic) Октября… и как Вас-то, верующего православного, не тошнит от докторского нарочито церковно-лубочно-блинного духа… У другого Бориса (Зайцева) все это выходило лучше. А стихи доктора: “Быть женщиной – огромный шаг”».
Я очень хорошо знал Набокова, дружил с ним, в Берлине 1922—24 гг. Потом, с 1925 по 1939 год мы с ним много переписывались и два раза встретились в Лондоне, где я ему устроил несколько русских и английских выступлений. Война разлучила нас. После войны мы встретились только раз – в 1947 году в Нью-Йорке. Но переписка наша некоторое время спорадически продолжалась, хотя Набоков с годами писал все реже и реже, поручая жене писать за себя (все же у меня есть и его письма из Швейцарии). Мне сдается, что в Вашей оценке Набокова и подходе к нему есть две большие ошибки. 1) Вы считаете его умным человеком и даже как будто «мыслителем». Я не уверен, что он был умен (иногда очень даже сомневался в его именно уме в общепринятом смысле слова). А мыслителем он вовсе не был. Он был одарен огромным литературным талантом и гениальным видением, и это делало его большим писателем. Но, в сущности, ему было мало что сказать, и с годами он все больше и больше уходил в словесную игру, которой предавался со страстью (поэтому все его английские романы, включая «Лолиту», которую я никогда не ставил высоко – он это, по-видимому, чувствовал, а потому охладевал ко мне – и которую Вы как будто очень цените, слабее почти всех его русских вещей). 2) Он был совершенно чужд религии, а к христианству относился, я бы сказал, даже враждебно. Уже по этому одному он не мог оценить романа Пастернака, религиозной «инспирации» которого, как бы ни относиться к нему, нельзя отрицать. Вы говорите, что «Доктор Живаго» далек от идеала, который Пастернак сам сформулировал. Не буду спорить. Но для Набокова самый идеал был неприемлем. И он, как видите, отвергал огульно все стихи доктора Живаго. В этих стихах есть, разумеется, «просчеты», но есть среди них и замечательные (и как раз религиозные). Набокову они ничего не говорили и не могли говорить. Вы, я вижу, очень высоко ставите «Приглашение на казнь». Я – тоже. Но Вы видите в этом романе то, чего сам Набоков не замышлял. Набоков – очень интересный случай на редкость одаренного писателя, совершенно лишенного духовности. Не было ее, мне кажется, и в человеке. Не думаю, чтобы эта бездуховность была просто позой, как иногда можно было бы подумать. В каком-то смысле Набоков-писатель был больше самого себя. <���…>
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: