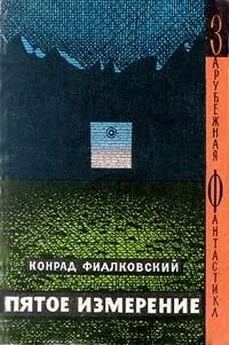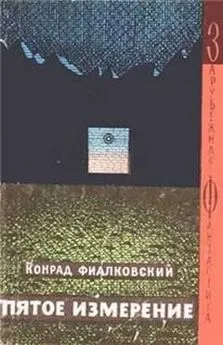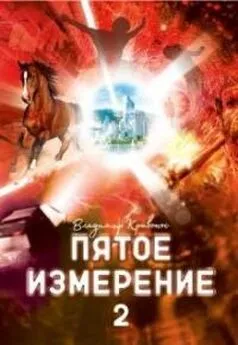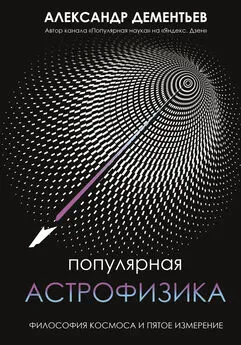Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Название:Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-46470-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Битов - Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) краткое содержание
Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).
Пятое измерение. На границе времени и пространства (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Язык – тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть. Но – не больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь. Хотя в самой жизни они, немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки достаточно отчетливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь – чрезвычайная честь, головокружительная карьера для нового понятия: словарь ревниво охраняет численность своего поголовья. Это проливает некоторый свет на природу литературы, которая, по сути, является подвижной частью устоявшегося языка, восполняя недостаточность числа словесных символов постоянным формулированием понятий текущей жизни, не оказавшихся настолько старыми или вечными, чтобы попасть в язык. Именно такими новыми, хотя и громоздкими словами являются новые книги и сами писатели: выступает имя собственное, но известное уже всем. Пушкин, Гоголь, Чехов – это уже слова, а не только имена. Им непременно соответствует что-то отчетливое в сознании. Но Пушкин – это еще и целый ряд слов, как то: «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Гоголь – это множество слов, практически все его персонажи: Ноздрев, Акакий Акакиевич и т. д., даже слово «нос», которое есть в языке, расширено словом «нос», существующим у Гоголя, а Чехов – по сравнению с ними одно слово «Чехов», безупречно прекрасное, но одно. Чем больше писатель, тем лучше он понимает невероятную заслугу нового слова. Потому что ввести уже не имя собственное, а слово в словарь – заслуга чрезвычайно лестная. Можно умалчивать о достоинствах собственных произведений, но не проговориться гордо насчет того, что именно тебе принадлежит слово «стушеваться», – не удержаться. О Карамзине уже мало что помнят живого, но с помощью восхищенной зависти писателей известно, что ему принадлежат слова «промышленность» и даже «общественность», – заслуга, ни с чем не сравнимая! Одно дело, какое значение сыграет то или иное произведение для общества и как будет оценено, другое – что втайне, по-цеховому, даже не всегда в сознании, ценят люди пишущие друг в друге (в живописи и музыке больше так называемой техники, и профессионалы отчетливей ориентируются в заслугах перед гармонией, композицией или цветом и т. д.); люди пишущие могут ощутить такую же заслугу – в языке, стиле, но не в масштабности и значимости произведения. Хотя в конечном счете справедливость устанавливается и эти заслуги уравновешиваются. Но существует слово «Зощенко» и все еще не существует слова «Пришвин». Однако и так, что, как бы ни относиться иной раз плохо к поэту Маяковскому, как ни любить поэта Заболоцкого, – слово «Маяковский» есть, слова «Заболоцкий» нет, как нет, впрочем, и слова «Баратынский». Горький стал словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово. Необыкновенный таинственный аппарат признания работает через язык, регулируя численность устоявшегося и подвижного языка с необыкновенной точностью, тонкостью и циничным беспристрастием, принципы которого нам не до конца известны. Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая не смущенная нравственными или вкусовыми оценками значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни. Здесь карьеры слов и подвижного запаса имен – абсолютны, как и в жизни. Мертвому слову может быть обеспечено лишь временное официальное положение, но язык неподкупен. Он, правда, может быть засорен и развращен, в него, конечно, насаждается и изгоняется, но эта вода до сих пор способна очищаться, как дышит, хоть и из последних сил, океан, все еще справляясь с мусором человеческим. Он все еще океан, как и язык – все еще язык. Словарь – это справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то «бог» и «дьявол» не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его смысла, в нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Л. Толстой, чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает в свои ряды, изгоняет или временно отравляется новым словом, – воистину тайна сия велика есть.
Про неисчислимое число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно: что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя – последней. Даль – это наш Магеллан, переплывший русский язык от «а» до «ижицы». И было у него первое слово, которое он записал, и было оказавшееся последним, предсмертное. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне конкретного, осязаемого организма (живаго…). Даль сумел назвать все известные ему слова одним именем: «Далев словарь» стало Новым словом, и обнявшим, и поместившимся в нашем языке и сознании.
И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук; если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу. Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию взваливает себе на плечи… Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его выражение: вовсе ничего святого и постного – безумная страсть, бешеный темперамент! – только они могли помочь ему довести подобный труд до конца. Великий, первый наш природоохранник… Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: