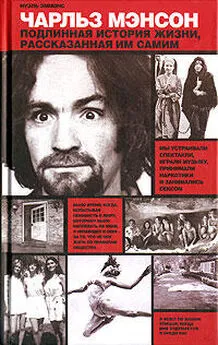Array Коллектив авторов - Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями
- Название:Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-086970-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями краткое содержание
«За год мы пересекли отметку в сто миллионов посетителей, наши публикации прочитали полтора миллиарда раз, одна из наших публикаций собрала миллион просмотров, наши фотоистории просмотрели 30 миллионов раз, видео – 13 миллионов. Мы ликовали. Мы поверили в то, что победили. Мы подумали, что можем без помощи властных структур, без пиар-технологий и покупного трафика, без инвестиций и джинсы, без приглашенных звезд и эффективных менеджеров стать крупнейшим независимым СМИ в России. Мы были уверены, что изменили правила игры. Нам оставалось два месяца до конца».
Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И если для этого некролога выбирать только один аспект жизни «Ленты», то я хочу остановиться именно на ее языке. Я пришел в редакцию из филологии и точно знаю, что законы журналистской этики можно пересказать как законы этики языка: если ты считаешь, что не имеешь права врать или скрывать; если ставишь себе целью отделять важное от неважного, а правду от информации; если намерен писать целостную картину; запретил себе бросать старую тему; если должен балансировать между требованиями объективности и требованиями совести («Из текста всегда должно быть ясно, кто мудак» – журналистский урок, который дал мне Ярик Загорец); не можешь «забыть» поступившее опровержение, если оно поступило, или не написать, что пожар потушен, если раньше писал, что дом загорелся, – все эти самоограничения накладываются не на то, что (или о чем) ты говоришь, а как ты это говоришь; все они касаются твоего модуса изложения.
Я много думал о том, какой же язык был у «Ленты», но к окончательному выводу так и не пришел; если бы надо было ответить одним словом, то пришлось заявить бы, что он был разным (гетерогенным, сказал бы ученый). Например, в зависимости от надобности он мог быть то страстным, то сухим. Пример страстности – это спортивные онлайны, с которыми я познакомился еще как читатель: летом 2008 года, уже сдав диплом, но еще не найдя работу, я готовился к экзаменам в аспирантуру и зачитывался онлайнами с футбольного чемпионата Европы. Спорт меня не интересовал совершенно, а вот тексты Сашки Поливанова или Андрея Мельникова завораживали. Что онлайн надо обновлять, я понимал по крикам, залетавшим в окна, и с удовольствием читал: «ГОООЛ! Ковальчук! Йо-йо-йо! ПАВЛЮЧЕНКО! Охереть, извините. <���…> На трибунах слышно только «Россия! Россия!» И это, извините, тоже порождает только мат. С позитивными коннотациями, естественно».
Пример неэмоциональности «Ленты» – это, конечно, язык ее новостей, обсуждению стандартов которого было посвящено не одно эмоциональное совещание. Впрочем, бесстрастный – не значит пресный или скучный; главное, чтобы язык не заслонял фактуру. А фактура иногда бывает такова, что чем спокойнее ее изложишь, тем больше выиграешь – и речь не только об общественно-политических новостях, но и, например, о рубрике «Из жизни», она же «Одли», она же «Ад». В те времена, когда большинство СМИ (и даже милицейских пресс-служб!) предпочитали шутить, рассказывая о забавном, «Лента» сохраняла каменное выражение лица и, экономя знаки на глупых шутках, занимала пространство дополнительными подробностями: в результате текст начинал выглядеть так гротескно, словно срастаясь с абсурдной действительностью – чаще всего российской. В те времена, когда в «Из жизни» писали все редакторы по очереди, я особенно следил за новостями Тани Ефременко (Зверинцевой), главным мастером бесстрастного, сжатого, но подробного стиля. Позднее Таня, человек глубокий, эмоциональный и философски настроенный, перешла в раздел «Преступность», где окончательно и нашла себя. 13 января 2011 года «преступная Таня», как мы назвали ее в твиттере, опубликовала знаменитый текст «Смерть под елочкой» – о преступлениях, совершенных россиянами за новогодние праздники. Никогда еще интонация перечисления и систематизации не звучала столько гротескно:
«Вообще убийства родственников происходили во время каникул очень часто. Новый год называют семейным праздником, и многие россияне проводят его с родными. Как результат, именно родные попадаются убийцам под горячую руку. Так, 30 декабря 59-летний житель Ульяновска зарезал своего 34-летнего сына и ранил 60-летнюю супругу. А 29 декабря 54-летний ранее судимый уроженец Узбекистана, ныне проживающий в Ростовской области, избил свою 112-летнюю мать. 4 января долгожительница умерла в больнице».
И веселые спортивные (а за ними и политические музыкальные) онлайны, и трэш-вестник российской обыденности в качестве самостоятельных жанров перешли в другие издания и даже в целые нишевые СМИ; но «Ленту» никто не только не опередил, но и не догнал.
Человеку стороннему может показаться, что такое сочетание противоположного – это эклектика. На деле нет – и лингвистика знает случаи, когда стиль, основанный на примирении непримиримого, торжествовал в культуре (вспомним Пушкина, что ли). Важно то, как и почему ты сочетаешь: не от неумения (привет силовым пресс-службам), и не от пошло понятого юмора (который прикрывает ту же беспомощность), а только от желания сделать что-то новое; от осознания одновоременно и дерзости, и ответственности. Если шутишь, не шути в пустоту. Наши летучки обычно проходили во взрывах смеха, но все шло в работу: удачная шутка могла стать колонкой, в переборе идиотских идей находился неожиданный поворот темы, а толчком к написанию большого текста мог стать остроумный заголовок.
Помню один из последних примеров: мы в «Культуре» делали большой материал к выходу совсем не веселого последнего фильма Алексея Германа. Все готово, можно выпускать, но нет заголовка – и мы как проклятые вертим на языке формулу «Трудно быть богом», уже тысячу раз обыгранную в тысяче изданий. В какой-то момент, устав от пафоса, мы пошутили: «Румата, будь человеком», хором расхохотались, и тут же всерьез его и опубликовали – шуточный заголовок как нельзя лучше отражал смысл материала о смысле фильма Германа. Серьезное и несерьезное не контрастировали, а уживались вместе, порождая новое качество стиля, по триаде «тезис – антитезис – синтез». И игра, и пафос – это только речевые маски, но живой человек не бывает все время только смешным или только невозмутимым. Преодолевая обе эти авторские позиции, «Лента» – коллектив из 80 человек! – создавала образ цельной личности, которая вступала с читателем в общение. А доверительным это общение уже становилось из-за оперативности, правдивости, ясности – словом, требовательности к языку и к себе.
Грандиознейшим из таких языковых экспериментов в пространстве я считаю один маленький фокус, провернутый Игорем Белкиным. У «Ленты. ру» был какой-то коммерческий проект для развлечения читателей на новогодних каникулах; спонсор попросил освещать материалы в своем твиттере, ну и мы легко согласились – даром что твиттера никакого не было. Заводя аккаунт, Игорян назвал его lentaruofficial и так и написал: «официальный твиттер «Ленты. ру». Вот только содержание официального твиттера было вопиюще неофициальным: в нем были шутки, музыка, подробности внутренней жизни редакции – и, да, новости, но в максимально ненейтральной подаче. Не то чтобы мы шутить придумали первыми в Интернете; и точно множество личных твиттеров велось из ньюсрумов. Но идея сделать неофициальное официальным, объявить кулуарное парадным (не, нуачо?) было грандиозной новацией. То как «Лента. ру» смела и крута в твиттере, стало главной темой зимы; @lentaruoffi-cial получила десяток других подражателей в других изданиях (постыдных в большинстве случаев), мир интернет-СМИ изменился навсегда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: