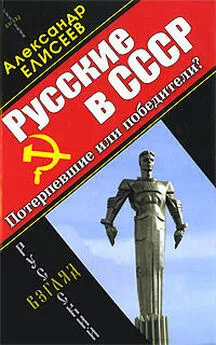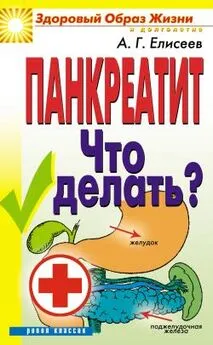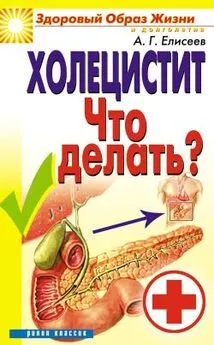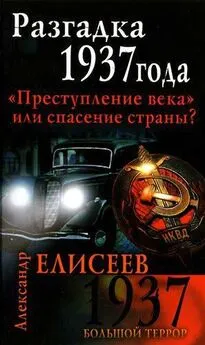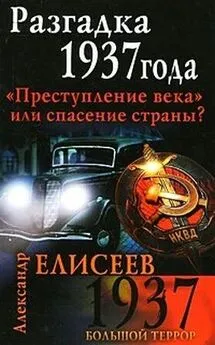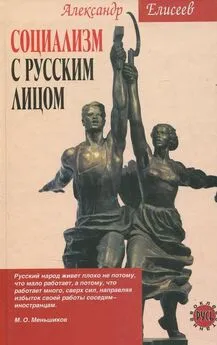Александр Елисеев - Русские в СССР. Потерпевшие или победители?
- Название:Русские в СССР. Потерпевшие или победители?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-9955-0129-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Елисеев - Русские в СССР. Потерпевшие или победители? краткое содержание
Есть ли основания объявлять революцию 1917 года «величайшей катастрофой XX века», а политику большевиков – «геноцидом русского народа»? Кем были русские в СССР – «жертвой коммунистического режима» или становым хребтом Империи, объектом чудовищных экспериментов или творцами будущего? Правы ли исследователи, называющие русских «главными потерпевшими» от советской власти? Была ли государственная русофобия случайным эксцессом или сутью «красного проекта»? Считать ли сталинскую эпоху временем национального унижения и «хождения по мукам» или вершиной русской истории?
Русские в СССР. Потерпевшие или победители? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Керенский затею Духонина поддержал и принял его предложение. Тем самым он обрекал Россию на полную утрату своего суверенитета – в пользу стран западной демократии. Таким образом, в октябре 1917 годы было свергнуто не просто слабое и прозападное правительство А.Ф. Керенского. От власти отстранили клику предателей, вознамерившихся полностью запродать Россию иностранцам. (Такое развитие событий предугадал Сталин, писавший еще в июле, что Россия стоит перед угрозой превратиться в колонию Англии, Америки и Франции.) И свергали их не одни только большевики и их политические союзники – левые эсеры, анархисты и т. д. Свою руку приложили и многие армейцы-националисты.
Цитирую далее: «24 октября Ленин узнал, что Верховский уволен в отставку. Ленин зря тревожился, военным министром стал заместитель Верховского генерал-аншеф А.А. Маниковский, который тоже был в заговоре. В заговоре был и главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-аншеф В.А. Черемисов. Еще в сентябре Черемисов увел подальше от Петрограда единственную опору Временного правительства – Конный корпус генерала Краснова. Черемисов растащил сотни и батареи корпуса по разным городам и селениям от Витебска и Ревеля до Новгорода и Старой Руссы. Корпус как боевая единица перестал существовать (генерал Краснов напишет в мемуарах, что это была «планомерная подготовка к 25 октября»)» («Генералы в Октябре»).
Действительно, история с Черемисовым выглядит очень странно – особенно если учесть, что он спонсировал большевистскую печать у себя на фронте. Командующий не только увел корпус подальше от Петрограда, но и отказался выполнять приказ Керенского (данный за полночь с 24 на 25 октября) направить в столицу полки двух казачьих дивизий (с артиллерией) и 23-й Донской казачий полк. Формально отказ от выполнения приказа обосновывался тем, что Временное правительство назначило оберуполномоченным по наведению порядка в Питере члена кадетской партии Н. Кишкина. Аргументация приводилась такая – дескать, войска на сторону кадета не станут.
Весьма любопытно выходит и со штурмом Зимнего дворца. Мало кто знает, что этих штурмов было несколько. И первый большевики попытались осуществить аж 23 октября. Тогда военные части, преданные большевикам, были выдвинуты к Зимнему дворцу, однако же оказались разогнанными кавалерийским эскадроном, верным Керенскому. Это была явная неудача, которая ставила под угрозу всю затею большевиков и «красных националистов». Вообще день 23 октября был днем успехов Керенского и его сторонников. Именно тогда Временное правительство приказало закрыть все большевистские газеты, что несколько опровергает миф о нерешительности «временных», которые якобы «сидели и ждали». «Это решение всех застало врасплох; никто не ожидал подобной смелости от угасающего режима, – пишет американский историк А. Улам. – И тут большевики поняли, что их штаб в Смольном… остается совершенно незащищенным. Достаточно небольшого отряда, чтобы арестовать штаб приближающейся революции. В Смольный тут же доставили пулеметы и орудия, правда, многие были в неисправном состоянии и из них нельзя было стрелять, но, по крайней мере, внешне Смольный производил устрашающее впечатление.
Центральный комитет собрался в Смольном и по предложению Каменева, стремившегося сгладить впечатление от своего малодушного поведения, принял решение, что никто из ЦК не должен покидать его без разрешения» («Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года»).
Через сутки, 25 октября, на Зимний были брошены отряды рабочих и матросов. Они пытались взять его трижды – в 18.30, 20.30 и 22.00. И трижды у них ничего не получалось, юнкера и женщины-«ударницы» отгоняли красных своим огнем. Но в 2 часа ночи 26 октября за дело взялись бойцы 106-й дивизии, вызванные телеграммой Ленина накануне – из Гельсингфорса.
Командовал дивизией полковник М.С. Свечников – военный разведчик, герой двух войн – Русско-японской войны и Отечественной войны 1914–1918 годов. Он же и повел в атаку на Зимний отряд из 450 бойцов. «…Это были профессионалы, – пишет И.А. Дамаскин, – которых два года готовили как гренадеров. Сейчас их назвали бы спецназом» («Вожди и разведка. От Ленина до Путина»).
Помимо взятия Зимнего спецназ Свечникова отличился еще и тем, что предотвратил атаку 3-го конного корпуса генерала Краснова на Петроград. Вначале генералу сопутствовал успех, и он взял Гатчину и Царское село. «Но 30 октября мятежное войско Краснова было остановлено, а вскоре на помощь большевикам прибыл крупный отряд 106-й пехотной дивизии. Появление его бойцов решило исход дела. Краснов вспоминал впоследствии, что был потрясен, когда разглядел в бинокль офицерские погоны на плечах большевистских командиров» («Вожди и разведка»).
Крайне интересна в данном плане версия о связях военных заговорщиков и Сталина. О. Стрижак обращает внимание на то, что Сталина не было в списке большевистских лидеров, которых предписывалось арестовать в начале июля 1917 года. Получается, что кто-то вывел Сталина из-под удара. И этим кем-то, по мысли Стрижака, был генерал Н.М. Потапов, убежденный монархист и начальник разведывательного управления Генштаба, который начал сотрудничество с большевиками задолго до октября.
Тут имел место быть сознательный и тщательно продуманный выбор, который сделало руководство русской разведки. О том, как это произошло, повествует С.Б. Переслегин: «Проигрыш Русско-японской войны… вынудил правящую элиту по-новому проанализировать вызовы, стоящие перед страной… Очень быстро стало понятно, что военное поражение – верхняя часть айсберга. Российская промышленность теряет конкурентоспособность, Россия все больше отстает от передовых европейских стран и США. Причину отставания выявили работы Д. Менделеева, окончательная точка была поставлена уже во время Первой мировой войны комиссией в. Вернадского, известной как КЕПС (Комиссия по естественным производительным силам России)… Если очень кратко, то вердикт КЕПС выглядел следующим образом: по мере развития индустрии протяженность России стала ее ахиллесовой пятой. Даже если производительность труда будет такой же, как на Западе, если плотность железных дорог и количество электростанций на единицу площади достигнет западных показателей, российская промышленность все равно останется неконкурентоспособной, поскольку среднее транспортное плечо – больше и, соответственно, выше транспортные издержки. Но проблема заключается в том, что до этих западных показателей – «дистанции огромного размера». Россия в начале ХХ века оказывается больной инфраструктурной недостаточностью, ей требуется подлинная революция в организации и обеспечении производства. Для этой революции нет средств, и найти их невозможно, потому что «таких денег не бывает». Острее всего проблему воспринял Генеральный штаб. Насколько можно судить, уже к 1910 году он подготовил два возможных решения. Первое было вполне очевидным: выиграть предстоящую войну с Германией и Австро-Венгрией, выиграть любой ценой, но так, чтобы победа выглядела неоспоримой. После этого ограбить поверженного противника дочиста и за его счет провести модернизацию. Но тогда нужно побеждать в скоротечной войне – до того как союзники развернут весь свой военный и промышленный потенциал. Понятно, что после Цусимы и Порт-Артура разумные люди в Генштабе обязаны были задать себе вопрос: а что делать, если быстро победить не получится? Затяжная война оборачивалась для России катастрофой вне всякой разницы от окончательного результата. В случае победы центральных держав инфраструктурная отсталость России была бы зафиксирована Германией, а в случае их поражения – союзниками. В обоих случаях вырисовывалась малоприятная перспектива полуколонии по образцу Турции или Китая. И тогда возникает второе, невероятное решение. Найти в России силу, которая способна провести модернизацию за счет внутренних ресурсов – за счет всего и невзирая ни на что – ни на закон, ни на обычаи, ни на человечность. Какое-то время Генштаб, очевидно, рассматривает средний вариант: верхушечный переворот, замена Николая II Великим князем Николаем Николаевичем. От этой компромиссной идеи отказались где-то между 1915 и 1916 годами. В 1917 году ставка была окончательно сделана на партию большевиков… «В людях» взаимодействие осуществлялось через братьев Бонч-Бруевичей, из которых один фактически заведовал орготделом партии большевиков, а после революции стал управделами СНК (по своим убеждениям – монархист. – А.Е .), а второй был офицером Генштаба и осенью 1917 года возглавлял Северный фронт… Не меньшее значение имела связь Потапова, заместителя начальника Генштаба и генерал-квартирмейстера, со старым большевиком Кедровым. Незадолго до революции Кедров свел Потапова с членом ВРК Подвойским» («Секретное оружие элит. Революция как элемент управления»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: