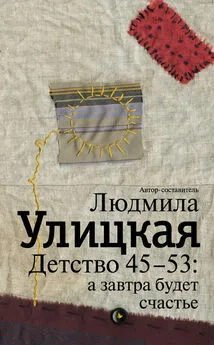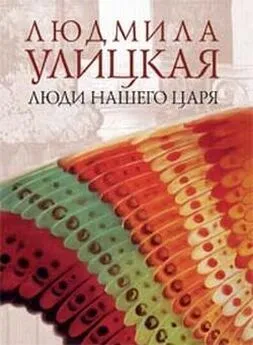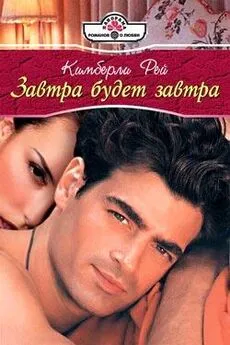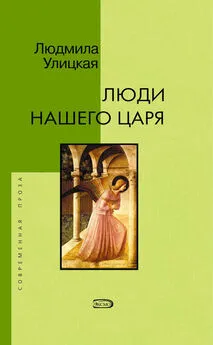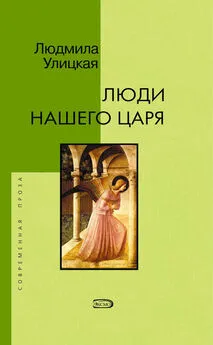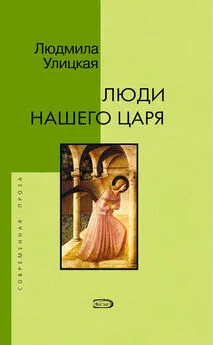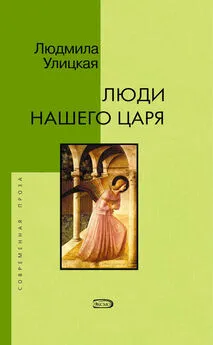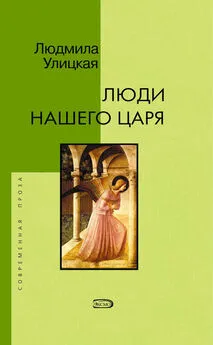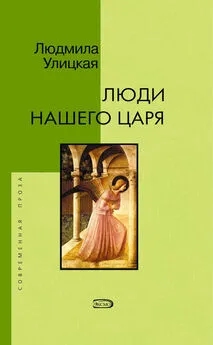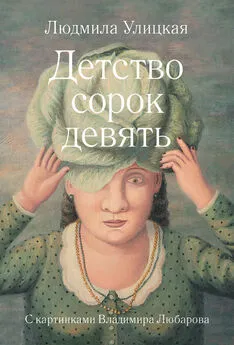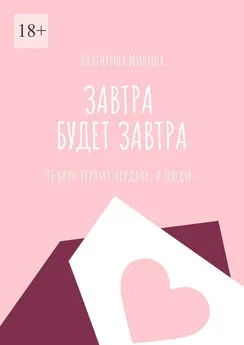Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье
- Название:Детство 45-53: а завтра будет счастье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079644-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Улицкая - Детство 45-53: а завтра будет счастье краткое содержание
«…Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители…
С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и «малая» история каждой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание… Не поймут, что значит «довесок» (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца… То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей… Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания». ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.
Детство 45-53: а завтра будет счастье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Александр Коварский
«Пойдем к деукам!»
«Пойдем к деукам!» – говорил Леша обычно под вечер, начистив до блеска медали и сапоги. Мы всегда были желанными гостями в окрестностях Новогрудка. Леша числился ординарцем моего отца. Так в советское время назывался «военнослужащий, состоящий при командире для выполнения служебных поручений, передачи приказаний и т. п.». А практически это были обязанности денщика (по Ожегову: «До революции – солдат, состоящий при офицере для личных услуг».) Леша появился в нашем доме после войны и трудился под командованием бабушки: пилил и колол дрова, топил печи, приносил воду из колодца, ездил за продуктами, то есть занимался домашним хозяйством. Я считал его, двадцатипятилетнего, членом семьи. Среднего роста, русоволосый, худощавый, с голубыми глазами, в которых всегда играли смешинки. По рассказам отца, он не раз глядел в лицо смерти, обезвреживая снаряды, мины, выполняя другие опасные задания. Его гимнастерку украшало много боевых наград.
После ранения и контузии Леша немного прихрамывал и плохо слышал, поэтому говорил громко, по-волжски «окая». В 1945 году в школу я еще не ходил и проводил с ним много времени. Крестьянский сын, Леша быстро находил общий язык с самыми разными людьми. Я любовался им, когда с шутками и прибаутками он весело торговался на рынке, ему всегда уступали в цене.
Перед Лешиным обаянием трудно было устоять, появление такого завидного жениха становилось праздником для незамужней части деревни. В чьей-то просторной избе появлялся гармонист, плотные краснощекие девахи накрывали на стол. Обычно из печи доставался чугун с рассыпчатой картошкой, появлялась пузатая бутыль мутного самогона, душистый хлеб, сало, соленые огурцы. Выпив и закусив, компания заводила песни. Мне запомнилась одна очень грустная: «Пускай могила меня накажет!» А за что – я так и не понял.
С некоторых пор мы зачастили в дом, где жила Мария. Кажется, Леша полюбил красивую статную девушку, и ему отвечали взаимностью.
Осенью 1946 года саперную бригаду расформировали: молодых солдат направили служить в другие части, а старослужащих – демобилизовали. Настал день, когда мой друг, тепло распрощавшись с обитателями дома пана Кадзика и обещая писать, направился с Марией на вокзал. Она была уже на сносях. Леша повез ее в родительский дом в Саратовскую область.
Его жизнь сложилась непросто: Леша был уже женат, точнее сказать, – расписан. Перед войной он, весельчак и балагур, «гулял» со многими девушками. А уходя на фронт, привел одну из них в ЗАГС, чтобы в случае его смерти та получала пенсию. Тогда многие так поступали. К счастью, Леша не погиб, а глубокой привязанности, по-видимому, у него не было. За четыре военных года, после всего пережитого, он и вовсе о законной супруге позабыл. Но она-то о нем помнила! Каково же было всеобщее удивление, когда однажды, свалившись словно с неба, предъявила свои права на Лешу.
– Мне некуда деваться, – лепетала она, – отец выпроводил из дома: должна, мол, жить со своим законным мужем, хватит есть родительский хлеб! Я не боюсь никакой работы!
Леша был добрый человек. Посоветовавшись с отцом и матерью, оставил женщину в доме на правах родственницы. В просторной избе места хватало, а в крестьянском хозяйстве пара рук всегда нужна. В деревне ничего утаить нельзя, поползли слухи – в христианском обществе двоеженство осуждалось. Через какое-то время Леша с Марией уехали в большой город.
С тех пор прошло много лет. Давно ушел из жизни мой отец, наверное, нет и его бывшего ординарца. Я с теплотой вспоминаю послевоенное время, прожитое рядом с Лешей, произнесенную с молодецкой удалью замечательную фразу, звучащую и сегодня как боевой клич: «А пойдем-ка, Шурик, к деукам!»
Светлана Кайсарова
Требушастая Изабэлья
Редкая деревня на Псковщине отличается красотой названия. В одной из них, Мокрове, шестым и последним ребенком (долгожданная девочка) и родилась моя мама в мае 1943 года. Отец ее, мой дед Леня, был призван на фронт спустя два месяца после ее рождения, так что все трудности выживания семьи на оккупированной территории достались моей бабушке.
Мамино первое детское воспоминание связано с самым счастливым событием в жизни ее семьи – это возвращение отца с фронта. Он пришел домой в августе 1945 года, когда его уже отчаялись ждать…
Странно, но цепкая детская память не сохранила ни объятий, ни подбрасывания хрупкой дочурки вверх, ни ощущения колючей щетины при поцелуях, ни запаха горькой махорки… Может, этого всего и не было? Удивительно, но остался один цвет, вернее, разноцветье. Это была горстка первых в жизни конфет, завернутых в разные фантики и выложенных на большой деревянный стол. На фоне серой отцовской шинели и серой скатки эти сласти, конечно же, выглядели радужным фейерверком! Чтобы добраться до гостинца (именно «гостинца», не «подарка» – слово, к сожалению, стремительно устаревает), надо было сделать огромное усилие: встать на «персточки», на кончики пальцев, на «носочки», и протянуть руку. Почему-то именно это усилие ярче всего застряло в памяти моей мамы. И действительно, пока она помнит об этом, ее жизнеспособность неисчерпаема: с раннего детства она усвоила, что все самое яркое в жизни достигается ценой усилия, собственного большого труда.
Более осознанные воспоминания относятся уже к началу учебы.
Школьная пора рожденных в войну пришлась на первую половину пятидесятых: тяжкий деревенский труд сопрягался с неудержимым стремлением к знаниям. Политика партии требовала неукоснительного осуществления образовательной программы: несерьезного отношения к школе не допускалось и в мыслях.
Сейчас от маминой деревни практически ничего не осталось: в ней доживают свой век несколько энтузиастов, а после войны она насчитывала более сорока дворов, и, конечно, там была начальная школа. Деревенский учитель – царь и бог. Был такой и в мокровской начальной школе – Леонид Николаевич Успенский, член партии, прошедший войну, семинарист в прошлом. Надо ли говорить, что ему одному было не под силу справляться с сорока учениками, причем обучая их в разных классах? Уж сколько деревянных указок было сломано о головы нерадивых! Незадачливый ученик мог схлопотать и за неряшливый внешний вид. Так, старшего брата мамы Леню наказывали (били) за цыпки на руках, хотя совершенно очевидно было, что появлялись они по самой простой причине: не было рукавиц! Да много чего не было! Самая острая нехватка ощущалась в обуви. Многие ходили в школу за пять-семь километров: обувь изнашивалась быстро. Семьи были большие, и часто дети ходили в валенках по очереди.
Когда для мамы наступило время переходить из начальной школы в среднюю, Леонид Николаевич спросил у родителей, смогут ли они обеспечить ее зимней одеждой и, самое главное, валенками: средняя школа находилась в пяти километрах от Мокрова, а зимы были лютые. Поскольку мама была последним ребенком в семье, она оказалась последней и в детской обувной очереди… Так она осталась на второй год в четвертом классе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: