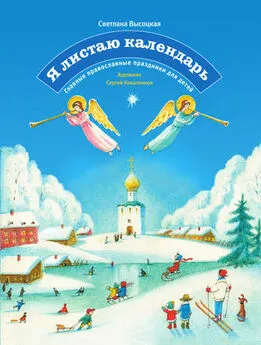Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты
- Название:Тайный русский календарь. Главные даты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-44972-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты краткое содержание
Под одной обложкой собраны эссе Дмитрия Быкова, написанные им в разные годы и на разные темы и объединенные единственно волей автора, который считает, что «истинный календарь русской жизни не вполне совпадает с официальным. То есть праздники-то те же самые, но вот настоящие названия у них другие. Идеальный способ употребления этих пестрых заметок — читать их в тот самый день, к которому они приурочены. Почитаешь — и поймешь, что все это уже было и вроде как выбрались. Выберемся и теперь».
Тайный русский календарь. Главные даты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во второй половине тридцатых Сталин уничтожил всех, кто Россию пытался модернизировать — хорошо ли, плохо, другой вопрос, — и заменил теми, кто принялся ее нивелировать; тех, кто мобилизовывал (и умел это), на тех, кто выколачивал. В результате империя после него не простояла и сорока лет: мотивация к какой-либо деятельности исчезла на корню. О том, как работает руководитель модернизационного типа, Леонов написал «Скутаревского» и «Дорогу на океан», предъявив читателю Черимова и Курилова. О том, как работает Сталин, «затягивающий шенкеля», сам он внятно рассказывает в «Пирамиде». Увидеть в нем не мобилизующую, а консервирующую, не прорывную, а принципиально нетворческую силу — подвиг для современника; и то, что нынешнее принудительное вырождение имеет вполне сталинскую природу и осуществляется в соответствии со сталинской программой, — еще один неожиданный и важный вывод из «Пирамиды», которую не худо бы читать и перечитывать, пусть выборочно.
Станислав Рассадин назвал ее «необъятной и нечитаемой» — я бы с этим не согласился, поскольку самая трудность и плотность леоновского языка, некоторая его корявость необходима для фиксации на важнейших ходах мысли; скользить по странице этого романа нельзя — ее надо медленно проговаривать вслух, лучше бы неоднократно. Допустить, что этот роман будет сегодня прочитан массами, — никак нельзя, да я бы и не хотел этого (возможно, потому, что это отчасти подорвало бы мою веру в собственную исключительность). Но именно ради самоуважения многие влезли в него — и не смогли оторваться: подзаголовок «роман-наваждение» там стоит не просто так, и каким-то подсознательным страхам современного читателя роман Леонова отвечает с редкой полнотой и чуткостью. Там намечены корневые, архетипические фигуры русской истории, фатальные ситуации, преследующие тут всякого, а потому каждый хоть раз да встречал на своем пути комиссара Скуднова или роковую красотку Бамбалски. Помню, как при первой встрече с Прилепиным мы три часа проговорили на волжском берегу в Новгороде не о Лимонове, а о Леонове — и этот разговор расположил меня к писателю Прилепину задолго до знакомства с его литературой. А вовсе уж неожиданная дискуссия о «Пирамиде» случилась у меня давеча на одной из российских книжных ярмарок, где милая собою девушка лет двадцати двух охраняла стенд крупного издательства. Я попросил у нее книжку, нужную по работе; слово за слово — она оказалась выпускницей филфака, писавшей диплом именно по «Пирамиде».
— Вы?! Вы ее читали?!
— А что?
— М-да.
Дальнейший разговор оказался чрезвычайно интересен — главная дискуссия шла о Шатаницком, самом загадочном персонаже «Пирамиды». Спорить с двадцатилетней блондинкой о Шатаницком в 2008 году — это, как хотите, из области фантастики; но действие равно противодействию, и если всемирное усмирение и усреднение набирает обороты — легко предположить, что будет расти и сопротивление ему.
У Леонова много вещей слабых, вроде «Соти», и испорченных, вроде «Вора» (хотя именно во второй вариант «Вора» вписана в 1957 году великая финальная фраза: «Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель»). Но великих — вроде «Бурыги», «Туатамур», «Метели», «Нашествия», первых и последнего романов — в любом случае больше. Это был писатель редкого, небывалого еще в России типа — писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой в душе, с твердым осознанием недостаточности человека как такового, непреодолимости его родового проклятия. Но как знать — не с этого ли осознания начнется новая литература, о которой все мы так мечтаем сегодня? И не Леонов ли станет одним из главных русских писателей XXI века, который, как он предрек, к середине своей станет веком сгущающейся катастрофичности? А главное — разве в леоновской тревоге и леоновском отчаянии не больше истинно здешнего, корневого и подпочвенного, чем в сусальных песнопениях или военных трубах?
Он ждет, времени у него много.
2 июня. Родился маркиз де Сад (1740)
Наш Сад, или Хитрость добродетели
2 июня 2010 года просвещенное человечество отметило 270-летие Донасьена Альфонса Франсуа де Сада. В судьбе де Сада, проведшего полжизни в заключении либо в психушке — хоть Шарантон выглядит почти Шератоном в сравнении с лечебницей Кащенко, — много несправедливостей, но главной из них мне всегда казалось то, что столь распространенное и грозное извращение названо именем столь посредственного и, в общем, скучного писателя. Писал он монотонно, механистично, длинно, доказывая тем самым, что патологическая личность может быть интересна литератору, но редко умеет писать сама, потому что у литератора уже есть одна извращенная страсть — все описывать, и два извращения редко уживаются в одной берлоге. Писатель не может быть ни полноценным эротоманом, ни законченным игроманом, ни даже настоящим алкоголиком, пому что он уже графоман, а эта страсть «сильнее всех иных велений». Вдобавок садизм открыт не де Садом — в мировой литературе, начиная с античной, полно описаний эротических жестокостей, куда более убедительных, чем все бастильские фантазии маркиза; взять хоть казнь служанок Одиссея. И потому я предложил бы называть садизмом совсем другое явление, а именно попытку удовлетворить собственную похоть под видом морализаторства, описать порок якобы для его разоблачения, а на самом деле для личного удовольствия. Ведь де Сад в своей прозе ужасный святоша, он только и делает, что отважно поносит чувственных монахов, бессовестных богачей и презренных тиранов, измывающихся над беззащитной добродетелью, но только эти измывательства и занимают его по-настоящему; только при описании этих гнусностей — необязательно эротических, иногда сугубо моральных — его анемичное перо обретает некую изобразительную силу, хоть и несравнимую с талантом его великих современников вроде Стерна, Филдинга или Прево.
Лев Толстой, первым, так сказать, ущучивший этот феномен на примере купринской «Ямы», говорил: «Я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая это, наслаждается. И этого от человека с художественным чутьем нельзя скрыть». Думаю, насчет «Ямы» Л.Н. погорячился, приняв за похоть обычную и неизменную купринскую страсть к описанию ярких коллизий и сильных натур; однако само явление — «обличает, а сам наслаждается» — действительно распространено. Оно простительно и даже трогательно, когда писатель подходит к делу с априорно сформулированной задачей, а в процессе творчества вдруг увлекается и оправдывает тех, кого собирался осудить, — таких примеров и у Толстого полно, хоть в «Анне Карениной», — то есть художественная правда оказывается сильнее схемы. Но нет прощения тому, кто сознательно и нагло фарисействует. Это и есть беспримесный садизм — обличать то, чем в действительности охотно занялся бы сам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: