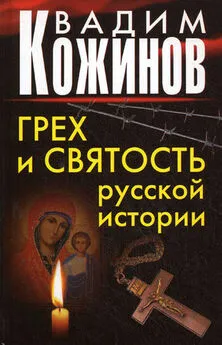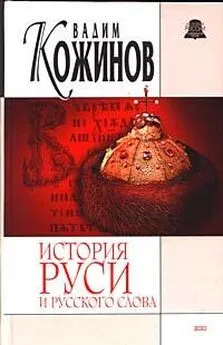Вадим Кожинов - Грех и святость русской истории
- Название:Грех и святость русской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-42342-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Кожинов - Грех и святость русской истории краткое содержание
Эта книга – духовное завещание выдающегося русского мыслителя и публициста, самое полное собрание его трудов по отечественной истории, куда вошли не только основополагающие работы, но и редкие статьи, прежде публиковавшиеся лишь в периодике и практически незнакомые широкому читателю.
Грех и святость русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1. Статья помещена в кн.: Кожинов В.В. Размышления о русской литературе. – Саратов, 1981. С. 17–62. (Далее страницы при цитировании статьи будут даны в тексте.) Мы оставляем за рамками нашего внимания некоторые иные проблемы, поднимаемые автором. В частности, тему евразийства, являющуюся, с точки зрения В.В. Кожинова, частью проблемы «духовного своеобразия России»; мы также не рассматриваем религиозных взглядов Чаадаева, хотя ученый и говорит о них, подчеркивая, что «Чаадаев ценил, так сказать, высокую разработанность католической идеологии (в сравнении с православной), а вовсе не ее конкретную духовную сущность» [с. 21–22]. Нам ближе позиция современного петербургского философа Н.П. Ильина, полагающего религиозные воззрения Чаадаева предшествующими так называемой «религиозной философии» Вл. Соловьева. Ильин пишет: «В области «практической» философии (не отдающей ясного отчета в своих метафизических основаниях) прямым предшественником Вл. С. Соловьева (1853–1900) был, конечно, Чаадаев (1794–1856), «историософскую» схему которого Соловьев только «потенцировал» ad absurdumв своей «Русской идее» (обойдя имя Чаадаева молчанием)». (См.: Ильин Н.П. Трагедия русской философии. Ч. I. От личины к лицу. СПб, 2003. С. 14).
Не менее важна и другая тема, поднимаемая Кожиновым, – тема самокритики искусства, приверженность русского писателя к «беспощадному сомнению и испытанию» правоты и абсолютности « этическогосодержания искусства» [с. 43]. Кожинов говорит о Гоголе, сжигающем рукопись, об отрицании искусства Толстым, о Достоевском, столь много сил отдавшем «Дневнику писателя», то есть публицистике. Исследователь интересно рассуждает об этой проблеме, но все же не приходит к выводу о том, что искусство и литература не могли и не могут заменить собой всю полноту бытиядля человека, – Кожинов не говорит о том, что их «самосуд» и «самокритика», безусловно, причиной своей имели религиозные (христианские) основания сознания. «Воля личности… – пишет Кожинов, – обращена к всемирному, вселенскому бытию, и те «ближайшие» внешние ограничения, которые способны полностью уничтожить свободу индивида, для этой воли оказываются только помехами, трудностями, препятствиями, – пусть и тяжкими, но не могущими ее раздавить. Характернейшим выражением этого может служить сцена из «Войны и мира», в которой пленный Пьер Безухов смеется над французскими солдатами: «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня, – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!..» [с. 47]. Конечно, дело тут не во вселенском бытии, а в бессмертной душе христианина.
2. Кожинов настойчиво разводит по разные стороны «всечеловечность» и «космополитизм», полагая первую как «существеннейшее свойство русской литературы», а второй – «идеологическим явлением» [с. 37]. И все же он чувствовал, что «всечеловек» и «всемирность» чреваты космополитизмом. Кожинов пишет: «И если происходит разрыв, распад единства всечеловечности и народности, первая вырождается в космополитизм, а вторая – в национализм» [с. 38]. Значит, разрыв все же возможен (а иногда и необходим, и неизбежен?). Кожинов настойчиво подчеркивает их обязательнуювзаимосвязанность и взаимодополняемость, полагая, что основное движение литературы всегда сохраняло «единство всечеловечности и народности» [с. 38]. Он не объясняет, собственно, чеми какдержится это «единство», более подробно. О «предрассудке космополитизма в истории» говорил Н.Н. Страхов (1828–1896) в связи с трудом Н.Я. Данилевского (1822–1885) «Россия и Европа», который подвергался постоянным нападкам и искажению смысла со стороны Вл. Соловьева. Страхов подчеркивал, что основная заслуга Данилевского в том и состояла, что он отвергэтот предрассудок. (См. статью Страхова «Новая выходка против книги Н.Я. Данилевского». – Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 3, изд. 2. – Киев, 1898. С. 124–153). Таким образом, «всечеловечность-всемирность» неизбежно чревата космополитизмом, поскольку в многомерном историческом пространстве именно народы, являясь реальными «деятелями истории», обладают «лица необщим выраженьем», «особенной физиономией», следовательно, к истории более применим «принцип национальности» (или, по Страхову, «начало национальности»). Сомнение в « органическомединстве» всечеловечности и народности, таким образом, было высказано еще в XIX в.
3. Здесь В.В. Кожинов проводит интересное исследование различного отношения к «внешнему миру» России и Запада. См. стр. 34–37.
4. Кожинов пишет, что Чаадаев с предельной резкостью отрицал существование «своей жизни» в России по сравнению с Западом, но именно в отсутствии «своей жизни» он видел превосходство русской культуры над другими, ибо она лишена «национального эгоизма». «Провидение, – цитирует Чаадаева Кожинов, – создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами… Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества… Все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить… В этом наше будущее… Мы призваны… обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого… Наша вселенская миссия началась» [с. 21]. Совершенно справедливо ученый полагает, что Чаадаев «любил в своей стране лишь ее будущее», он был обращен к идеалу, речь при этом шла о «запредельном» идеале. Мы, учитывая и нынешний наш опыт поражения, можем сказать, что любить «определенный идеал» гораздо легче, нежели видеть живые элементы этого идеала в реальной жизни, – любить их, отстаивать их, сохранять и бороться за них. Любящих Россию «идеальной любовью» (все реформаторы, кстати, всегда ссылаются на эту «идеальную любовь» к воображаемому будущему образу) сегодня гораздо больше, нежели любящих ее любовью деятельной.
5. «Весьма характерно, – пишет Н.П. Ильин в работе о Страхове, – такое суждение К.С. Аксакова, одного из наиболее национально настроенных славянофилов: «Дело человечества совершается народами, которые не только оттого не исчезают и не теряются, но, проникаясь общим содержанием, возвышаются и светлеют и оправдываются как народности» ( Ильин Н . Два этюда о Н.Н. Страхове. «Русское самосознание». СПб, 1996, С. 186. См. также его статью о Страхове в кн.: «Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX века». – М., Наследие, 2003). В этой верности славянофилов «человечеству», полагает Ильин, проявилась на самом-то деле прежде всего их верность гегелевскому тезисуо «безусловном примате универсально-исторических интересов над национальным своебразием» [Там же, с. 21].
6. Что же дает писателю и мыслителю вера в Россию? На этот вопрос Н.П. Ильин отвечает так: «… вера в Россию – это переживание метафизической реальности русского духа: метафизической, то есть не сводимой к «наличной действительности». Русский дух – это, во-первых, та творческая сила, которая позволяет отдельному человеку (писателю, мыслителю, политику и т. д.) совершить нечто, казалось бы, «непосильное», подлинно великое. Во-вторых, это та «общая почва», на которой созидается русская культура, русская государственность, русская жизнь во всех ее здоровых проявлениях» ( Ильин Н . Указ. ст. о Страхове. С. 13). В.В. Кожинов, исходя из убеждения о всечеловечности как органичномнациональном качестве, вынужден подкреплять эту мысль, находя основания для всемирности-всечеловечности в изначальном складывании России как государства многонационального, что, на наш взгляд, не изменяет сущности вопроса о «всемирности», враждующей со всякой национальностью, следовательно, и с многонациональностью (советская теория многонациональности культуры так и не доказала, что все национальные культуры неделимой «последней сущностью» своей имели некую сугубую «советскость»; «советскость» выступала все же внешним, не внутренним признаком культуры), а ее (многонациональной культуры) стремительный распад – еще одно доказательство того, что сущность-то оставалась именно национальной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: