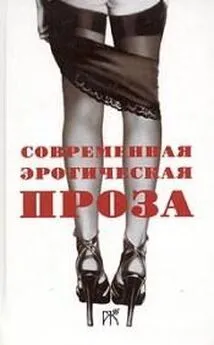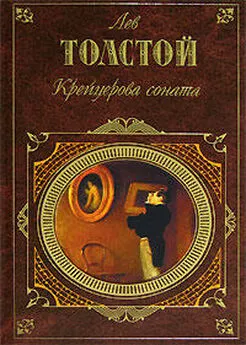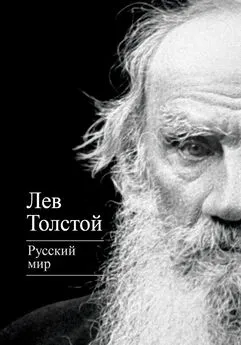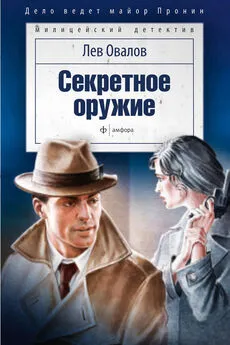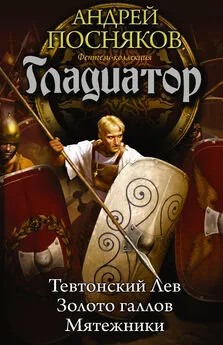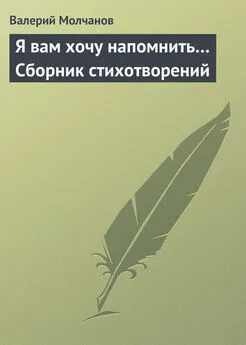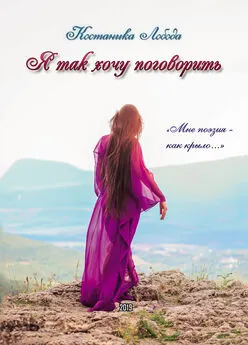Лев Пирогов - Хочу быть бедным (сборник)
- Название:Хочу быть бедным (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-073889-2, 978-5-271-35340-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Пирогов - Хочу быть бедным (сборник) краткое содержание
Хочу быть бедным (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хорошие слова, не матерные, но что-то в них неуловимо смущает. Что-то раздражает, да так, что хочется в урну сплюнуть (хотя лучше в платок, я знаю).
Думал-думал, и дошло наконец.
Раньше ведь что на стенах писали? «Ум, честь и совесть». Теперь, выходит, вместо ума – интеллект, вместо совести – уверенность в том, что так и надо, а вместо чести – безопасность, «только не бейте». На уровне второй сигнальной системы явное снижение пафоса наблюдается.
Прочёл в январской книжке «Нового мира» статью Сергея Белякова «Призрак титулярного советника». О непростой эволюции образа «маленького человека» в современной русской литературе.
Коротко своими словами. Во времена Гоголя и Достоевского общественный статус «маленького человека» был ниже статуса читателей литературных журналов, и обращение к этой теме было для них вроде как «милость к падшим», чувство облагораживающее и прекрасное. За возможность его испытывать «маленького человека» и стали превозносить. Был Акакий Акакиевич, владелец шинели, – стал Платон Каратаев, обладатель сокровенного этического знания. Но понарошечное преклонение перед «низами» постепенно освобождало сознание образованного сословия от мысли об ответственности за них: как, в самом деле, будешь заботиться о том, кто лучше тебя, мудрее тебя и сам только и делает что преподаёт великие нравственные уроки?
Незадолго до кризиса появился доктор Чехов со своими «Злоумышленником» и «Спать хочется», но было поздно.
Сергей Беляков утверждает, что в литературе конца XX века возобладала чеховская традиция, как бы слегка «циническая». Это со всех сторон неверно. Во-первых, Чехов был подвижником: на Сахалин ездил, крестьян лечил, деньги, задыхаясь в долгах, отдавал на благотворительность. Во-вторых, он не язвил малых сих, он лишь врачевал сентиментальность и прекраснодушие образованного сословия, на малых сих проливаемые. «Линию Чехова» оборвала революция, в результате которой всем удобный «маленький человек» оборотился всем неудобным Шариковым, эту метаморфозу сам же Беляков и отметил. А стало быть, «циническая линия» – это не «линия Чехова», это уже «линия Булгакова» получается.
Западные слависты часто спрашивают: «За что вы, русские, не любите Шарикова? Ведь он же тот самый, „маленький“!..»
Ну да. Смердяков тоже «маленький», так и что ж?
В дилемме «маленький, но подлец» важнее подлец. К тому же у Булгакова профессор Преображенский и сам не ангел: граница между добром и злом в повести отнюдь не совпадает с сословной границей.
Другое дело у продлившей и творчески развившей «линию Булгакова» Людмилы Улицкой. Тут уже с «социально близких» хоть икону пиши, а «плебеи» так и сочатся гнусностью. Беляков настолько точно обрисовал в статье её «творческий метод», что, похоже, сам испугался: пришлось срочно обзывать «Казус Кукоцкого» «одним из наиболее значительных современных русских романов», а то мало ли…
Интересно, однако, что рядом с Улицкой он ставит не Татьяну Толстую, у которой неприязнь к плебеям разрастается до комичной берсеркской ярости, а классовая солидарность с обитателями академических дач оборачивается нежнейшей любовной лирикой. Нет, оказывается, в затылок автору «одного из наиболее значительных современных русских романов» дышит… Оксана Робски.
Это неожиданно, но, пожалуй, глубоко правильно. Если Толстая и Улицкая – это «линия Булгакова», то Робски – уже «линия Толстой и Улицкой». Срабатывает механизм «преемственности элит». Улицкая и Толстая представительствуют от перестроечной посттоталитарной элиты, Оксана Робски – от нынешней.
И вот тут становится ясно, что вывести родословную этих трёх дам из классической русской литературы не легче, чем найти пресловутое промежуточное звено между обезьяной и человеком. Какое звено, когда там проволока колючая и пограничник с собакой стоит…
В царской России с трёхсотлетней традицией государственности (если считать от Смуты) принадлежность к элите определялась (по крайней мере, официально) через бремя ответственности. Но воссияла Революция, к власти пришли цареубийцы, дезертиры и вероотступники. Понятие социального долга для них, нарушивших этот долг всеми возможными способами, неприемлемо. Признаком принадлежности к элите сделались привилегии, что и неудивительно. Таково уж мироощущение человека, который «дорвался». До возможности казнить и миловать, например. Законный правитель это делать «обязан», а узурпатор – «волен».
Но рано или поздно «дорвавшийся» наедается чувства праздника. Власть становится для него рутиной, обязанностью, а там уже и до чувства долга недалеко. Для подросших к тому времени новых потенциальных революционеров это сигнал. Они поднатуживаются… и происходит «смена элит».
После второго за наши сто лет «перестроечного» переворота (начинавшегося под знаком «борьбы с привилегиями», разумеется) признаком принадлежности к «элите» стало «чувство свободы», проще говоря – безответственность. Отныне «элита» – это когда «всё дозволено». И когда тебе «ничего за это не будет». (Как Людмиле Улицкой, не так давно освятившей своим именем серию сексуально-просветительских книжек для детей, в том числе о благе гомосексуализма. И ничего.)
Итак, безответственность. Почему?
Стоит ли говорить, что Улицкая и Толстая, представительницы «посттоталитарной элиты переходного типа», не отвечали за ту страну, на языке которой писали, – они её презирали и ненавидели.
А кто отвечал? Те, кого Сергей Беляков да и кто угодно побрезгует включать в свои построения, – представители советской официозной литературы: Г. Марков, А. Иванов, С. Сартаков и так далее. Вот они да, отвечали, причём сразу всем: словом, дачей, рублём (а в иные времена и головами). То была «привилегированная элита» – главный объект ненависти «элиты посттоталитарной», непривилегированной и голодной. Хорошо или плохо официозники делали то, что делали, – отдельный вопрос; главное, они за это отвечали. Плохо делали – ответили поношением и забвением своих имён, ответили тем, что дело их насмарку пошло, что зря прожита жизнь… Но платящий по счетам достоин уважения.
А нынешние, как история ни повернись, всегда «ни при чём». Это народ дурак, власть негодяйка, лошади предатели, а мы «русская интеллигенция», эталон вкуса и совести, и никаким гомосексуализмом для самых маленьких, никаким лакейством и барством этого не исправишь.
…Кстати, из недр официальной советской культуры вышла вполне оригинальная «оттепельная» концепция «маленького человека». Пожалуй, это было самое светлое из всего, что удалось породить советской культуре, и самое ценное из всего, что было выброшено вместе с ней на помойку. От соцреализма там остались «трудовой подвиг» и «исторический оптимизм», от русской классики взята христианская идея Утешения, от масскульта добавлен завораживающе уютный быт. В качестве примеров на ум в первую очередь приходит кино, ну да можно ведь вспомнить, что фильм «Девчата» – это экранизация масштабного романа Бориса Бедного. Ничего подобного не могло появиться без «соцреализма» с его дьявольским равнодушием к человеку и невыносимо героическими героями, от которых так приятно было отдохнуть в оттепельном затишке-уголке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: