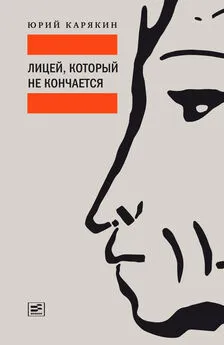Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
- Название:Достоевский и Апокалипсис
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94966-211-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис краткое содержание
И предназначена эта книга не только для специалистов — «ведов» и философов, но и для многих и многих людей, которым русская литература и Достоевский в первую очередь, помогают совершить собственный тяжкий труд духовного поиска и духовного подвига.
Достоевский и Апокалипсис - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Самосознание Раскольникова не достигло еще такого градуса накала, такой степени точности, когда герою можно было бы доверить вести одну-единственную «партию», доверить «соло» без какого-либо сопровождения.
Вообще исповедальному слову Достоевский придавал значение исключительное, считал его духовным подвигом, огнем, в котором человек возрождается, но может и погибнуть. И исповедь у него — всегда на границе, «на пороге» (М. Бахтин) воскрешения или окончательной гибели. На ней всегда отблеск апокалипсического зарева. Она сама — страшный суд своей совести, уже не боящейся никакой молвы, суд, свершаемый на людях.
Проповедь, притча, исповедь — это, вероятно, три главные (если не единственные) устойчивые, содержательные формы, своего рода модусы — духовного общения; проповедь (осознанно или неосознанно) апеллирует к некой сверхличной истине или прямо выступает от ее имени; притча обращается к чьему-то опыту, равновеликому или по крайней мере сопоставимому с твоим; исповедь говорит прямо «от я», ни к чему не призывая, но надеясь на понимание. Проповедь : поступай так, а не этак, потому что так должно, велено поступать. Притча : поступай так, а не этак, потому что есть намекающий пример. Исповедь : я поступил так, а не этак, и вот что из этого вышло… У каждой формы — своя сила, но исповедь для Достоевского — форма высшая. Он убежден, что только открыв свое сердце людям и можно пробиться к сердцам людей. Исповедь — беспощадность к себе и молчаливый крик о помощи. И даже проповеди и притчи Достоевского созданы и действуют в поле исповеди или (можно сказать и так) исповедь в них как бы растворена. Она есть, но ее не всегда видно. Ее не видишь, но она — облучает. И мы видели, убедились: притча о Раскольникове исповедальна насквозь. Исповедальное слово для Достоевского было самым впечатляющим, заразительным и неотразимым: не проповедь, не притча, а именно исповедь обладает максимальной силой влияния, потому что благодаря силе открытости, искренности, благодаря силе незащищенности она и вызывает не механическое эхо, а живой отклик, живую боль сострадания. Вдруг один человек в другом человеке узнает — свое, свою боль, узнает — себя (если, конечно, хочет и может еще узнать). Чем глубже копнешь в себе, тем общее выходит, говорил Л. Толстой, и говорил как раз о Достоевском. Глубже всего и «копает» исповедь. Исповедь — чистый голос совести, осознавшей наконец себя. Иногда это последний крик совести, последний крик человека в человеке, даже если он, крик этот, срывается, не выдерживает самого себя (Подпольный, Ставрогин). Не проповедь, не притча, а именно исповедь и наименее монологична, наиболее диалогична, наиболее полифонична . Она несравненно больше струн задевает в душе другого человека, в душах других людей и, естественно, вызывает ответное многоголосье душ. Она и предполагает самое близкое, прямое, непосредственное духовное общение человека с человеком, уже без всяких околичностей, без всяких обиняков, без какой бы то ни было назидательности проповеди и без намёчной наглядности притчи. Проповедь, притча — вольно или невольно — ставят слушателя (читателя) ниже себя, исповедь — выше. Но нет, пожалуй, это неточно: исповедь совсем не этим занята («выше» — «ниже»), но вызывает она состояние какого-то высшего равенства перед высшими законами жизни и смерти.
В известном смысле можно сказать, что во всей мировой литературе, во всех ее «жанрах» прослеживается развитие от проповеди через притчу к исповеди — по мере осознания мысли-чувства: «Свет надо переделать, начнем с себя. <���…> Мы хотели подвига; вот тебе подвиг: исповедь» (16; 375, 363). Может быть, тут какая-то тайная закономерность развития литературы, искусства, вообще всей духовной жизни: прорастание совести, прорастание «я», берущего на себя ответственность за мир. И тайная закономерность эта становится ныне все более явной под напором неотложного выбора между жизнью и смертью.
Проросла ли совесть Раскольникова к исповеди?
Несколько таких живых ростков есть, главный — на последней странице.
За два года до «Преступления и наказания» у Достоевского был уже опыт художественной исповеди — «Записки из подполья». Это исповедь-вызов, исповедь в агонии нравственного умирания. Это как последний отчаянный вой тонущего в болоте человека, над головой которого вот-вот сомкнется трясина. Тем пронзительнее — по контрасту с этим жутким воем — несколько его выкриков: «Мне не дают… Я не могу быть… добрым!.. К черту подполье!» Однако фактом является, что большинство тогдашних (да и позднейших) читателей, во-первых, не расслышали этих трагических выкриков, а во-вторых, отождествили автора с героем. Возможно, Достоевский, одержимый страстью непосредственного, неотложного влияния на читающую Россию, учел и это обстоятельство, работая над «Преступлением и наказанием» (кстати, после «Записок из подполья» ни одна из его художественных исповедей не вызывала больше таких кривотолков, как «Записки»).
Вернемся к черновикам. Все заметки — «новый план», «еще план», «рассказ от себя», «главная анатомия романа» — приходятся на октябрь — декабрь, скорее — на ноябрь, в конце которого и был сожжен роман. И теперь можно сказать с достаточной уверенностью, что тогда-то и был сожжен роман в форме исповеди, сожжен именно из-за этой формы как художественно недостоверной.
Роман «от автора» и есть уничтожение художественной неопределенности в мотивах преступления.
Финал. Достоевский: «Видение Христа»
Достоевский: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки».
Финал романа стоил Достоевскому не меньше трудов, чем художественное решение проблемы мотивов преступления.
В сущности, это был, конечно, один и тот же труд, поскольку «исход» Раскольникова и зависел прежде всего от силы этих мотивов.
«Божия правда, земной закон берет свое», — пишет Достоевский о раскаянии преступника (черновик письма Каткову). Но запятая между «Божией правдой» и «земным законом» не может скрыть противоречия между ними. Противоречие это так и не было разрешено до конца жизни, но в искусстве Достоевского — тенденция разрешения противоречия явно в пользу «земного закона». В черновиках к роману читаем: «Столкновение с действительностью и логический выход к закону природы и долгу».
Несчетное число раз Достоевский убеждал себя: «Бог есть идея, человечества собирательного, массы, всех » (20; 191).
«Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог» (24; 109). [48] Кстати, позволю себе сделать здесь одно замечание в адрес современных издателей Достоевского: почему в текстах писателя везде «Бог» заменено на «бог»? Ну, понятно, было такое прежде, под неусыпным надзором ждановых, заславских, ермиловых, невежество которых в отношении к религии было синонимом их «воинствующего атеизма», и такая замена казалась им «критикой» и даже «победой». Но сейчас-то — какой Берлиоз, какой Иван Бездомный заставил или посмел править Достоевского? Его всю жизнь « Бог мучил», а не « бог ».
Интервал:
Закладка:

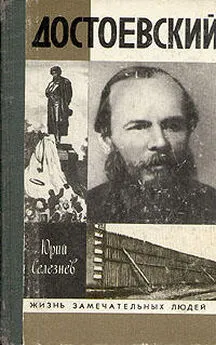
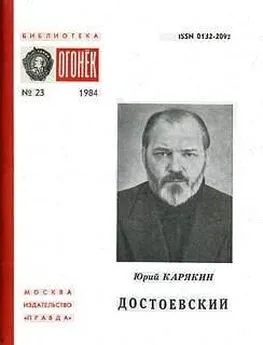
![Юрий Литвиненко - Дорогами апокалипсиса [СИ]](/books/1074285/yurij-litvinenko-dorogami-apokalipsisa-si.webp)