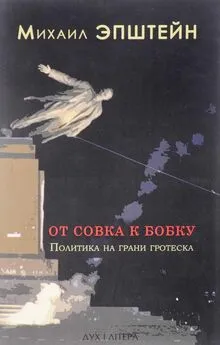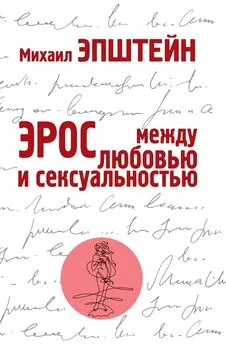Михаил Эпштейн - От совка к бобку : Политика на грани гротеска
- Название:От совка к бобку : Политика на грани гротеска
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дух i Лiтера
- Год:2016
- Город:К.
- ISBN:978-966-378-450-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Эпштейн - От совка к бобку : Политика на грани гротеска краткое содержание
От совка к бобку : Политика на грани гротеска - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В России взаимоотношения религии и культуры определялись историческими трудностями секуляризации на христианском Востоке. Как известно, Россия не испытала Ренессанса и Реформации и примкнула к движению европейской секуляризации на позднем ее этапе, только в эпоху Просвещения, в XVIII веке. Причем во многом это происходило подражательно, как усвоение внешних форм западной культуры, но не ее глубинного христианского ядра, которое проявлялось даже в рационализме и вольнодумстве. Стоит прислушаться к мысли В. Белинского из его письма Н. Гоголю (1847), пусть и высказанной слишком категорично:
«… Смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные».
Не будем превозносить Вольтера над всеми патриархами и архиереями, но очевидно, что падение феодально-монархических режимов, борьба против классового и гендерного неравенства, утверждение прав личности и свободы совести — это вклад секуляризации в историю христианской веры, на которой она, собственно, и была первоначально основана. Эта органическая связь христианства и гуманизма, христианства и индивидуализма, Божеского и человеческого, запечатленная в европейской культуре Нового времени, осталась во многом чуждой российской цивилизации.
Итак, секуляризация зарождается не сама по себе, как некое «надлежащее» состояние человечества, а лишь в ходе долгого религиозного развития и только на почве определенных вероисповеданий. Отсюда такие сложности становления светского общества в мусульманских странах и на христианском Востоке, где человеческое в Богочеловеке воспринимается с трудом, подчиняется «надчеловеческому», которое в свою очередь отождествляется с бесчеловечным. Отсюда и новейшая тенденция к сближению православия с исламом на основе фундаменталистских установок, ограничивающих политические и религиозные свободы, сдерживающих развитие гражданского общества, тяготеющих к обрядоверию и ксенофобии… Возникло даже понятие «правосламие», подчеркивающее общность этих двух религиозных формаций в их противостоянии «секулярному Западу».
По этой логике, у православия больше общего с исламом, чем с католичеством или протестантизмом. Что же общего? Антилиберализм, противостояние светской цивилизации с ее «индивидуализмом» и «рационализмом», стремление церковных иерархов взять под контроль образование и духовную жизнь общества, активно вмешиваться в дела государства, срастаясь с политической, законодательной, военной иерархией и строя свою религархию, в перспективе перерастающую в теократию. Сколь ни выглядит абсурдным — с догматической и исторической точек зрения — религиозный союз православия и ислама против западных ветвей христианства, очевидно, что такая правосламная идеология пользуется спросом и имеет свои геополитические, «евразийские» цели.
Вспоминается «Перелетный кабак» Г. К. Честертона:
«Пэмп:… он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино.
— И назвать хрислам, — угрюмо сказал Дэлрой».
Однако «хрислам» вряд ли подходит для обозначения евразийской утопии, поскольку ее идеологи агрессивно противопоставляют восточное православие западному христианству. Получается именно «правосламие» как оплот ортодоксально-мусульманского фундаментализма против христианского гуманизма и либерализма. При этом теряется главное, что отличает христианство от ислама: человеческая личность Христа, нераздельно слитая в нем с божественном природой.
Но если даже такая религия, как ислам, при всех своих фундаменталистских тенденциях, способна к секуляризации (как свидетельствует, в частности, опыт Турции), то можно ли надеяться и на совместимость православия и секулярности? На возникновение православного гуманизма?. Словосочетание редкое, но явление это прослеживается в духовной и даже церковной жизни православия XX века. Оно освящено именами митрополита Антония Сурожского, архимандрита Софрония (Сахарова), протопресвитера Александра Шмемана, священника Александра Меня, филолога и теолога Сергея Аверинцева… Хочется надеяться, что секуляризация в России осуществится встречными усилиями как верующих, так и неверующих, синергетикой обновленной церкви и созревающего гражданского общества.
2013
Христианство на Западе
Западное общество создано христианством. Если христианство отмирает там как особая религия, то именно потому, что оно вошло в плоть и кровь общества, стало практикой. Это проявляется прежде всего в отношении к слабым, чужим, исповедующим другую веру, принадлежащим к другим традициям и ориентациям. Сравните, как в разных странах относятся к инвалидам, сиротам. Больных и пришлых на Западе не чуждаются, их лечат, воспитывают, ухаживают за ними, берут к себе в дом, посвящают им жизнь. В больницах и хосписах столько тепла, заботы, участия к страдающим и умирающим. Во всех общественных учреждениях, публичных пространствах — особые приспособления, облегчающие жизнь инвалидам. Главное — чтобы все чувствовали себя людьми, чтобы не было отверженных и обреченных. Это и есть практическое христианство. Сущность его не в обрядах, а в том, чтобы любить ближнего как себя, чтобы не унижать других потому что они другие. Все — дети Божьи, а значит, и братья во Христе.
Обрядоверие, в сочетание с гордыней, столь распространенное в России, — дескать, мы истинные христиане, а все остальные нехристи, — это антихристианство, то самое фарисейство, с которым боролся Иисус. В России, увы, часто не понимают Запад, считают, например, что права, предоставленные гомосексуалистам, — это вызов христианству. Нет, мотивы здесь именно христианские, они не в том, чтобы «поощрить распущенность», а в том, чтобы признать и в этих «нетрадиционалах» — людей, наделенных равными правами, защищенных от унижения. Это и есть христианство. Христос защищал женщину, совершившую прелюбодеяние, общался с самаритянами, водил компанию с малопочтенными людьми, предпочитая их ученым, правильным и праведным фарисеям. Главное в христианстве — умение принять другого, почувствовать его как себя.
Когда я приехал в США в 1990 г., то в первые годы скептически относился к «политкорректности». Но постепенно осознал и почувствовал, что в ней есть правда приятия других, тех, кто слабее, тех, кто в меньшинстве и нуждается в защите. Подчас это право, сведенное в юридическую плоскость, приобретает гротескные черты, подменяя этику законом. Но в основе политкорректности — христианское чувство сострадания и готовность приносить жертвы тем, кто слабее тебя. Конечно, на Западе, как во всяком земном обществе, есть и эгоизм, и материализм, и преступность, но в отличие от России, где государство способствует проявлению этих пороков, западное общество реально борется с ними, это внутренне христианизированное общество, где признаются права личности и верховенство духовной свободы. И это проявляется в нынешнем отношении к беженцам, к странникам и иностранцам, ко всем отверженным. И даже к врагам — «благословляйте приклинающих вас». Христианство на Западе может отвергаться как институция, церковь, но глубинное ядро Запада, по моему ощущению — по крайней мере, в Америке и Англии, где я прожил четверть века — остается христианским.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: