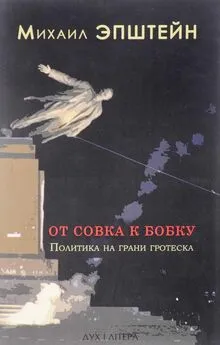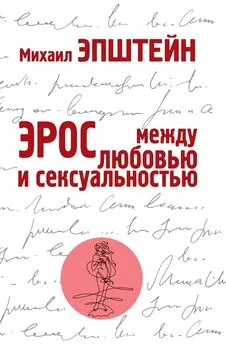Михаил Эпштейн - От совка к бобку : Политика на грани гротеска
- Название:От совка к бобку : Политика на грани гротеска
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дух i Лiтера
- Год:2016
- Город:К.
- ISBN:978-966-378-450-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Эпштейн - От совка к бобку : Политика на грани гротеска краткое содержание
От совка к бобку : Политика на грани гротеска - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«С Новым годом! И пусть события в нем пишутся белым стихом. Т. е. без рифмы к 1914 г. То же пожелание и к последующим годам, в т. ч. 2017. Пожалуйста, без рифм!» Боюсь, однако, это пожелание не было услышано Тем или теми, от кого зависит их исполнение. Боюсь, что настоящий Двадцать Первый Век еще только на пороге — и нам мало что известно о нем, кроме того, что он обещает быть жестоким.
«Новым средневековьем» назвал грядущий XX век Николай Бердяев в своей одноименной книге 1924 г. Его приметы — коммунизм, фашизм, евразийство, идеократия, индоктринация масс, отрицание ценностей Нового времени: гуманизма, индивидуализма, рационализма и демократии.
Казалось, Новое средневековье, начавшееся в 1914 г., ушло в прошлое вместе с крушением фашизма и коммунизма и с падением железного занавеса в 1989 г., т. е. продлилось примерно 75 лет. Следующая декада, 1990-е, прошла под знаком эйфории от глобальной победы демократии и рационализма западного стиля — человечество вернулось на магистраль Нового времени.
И вот XXI в. начался со взрывного рецидива нового средневековья, теперь исходящего от исламизма и, как становится ясно, от России, примкнувшей к этому новейшему медиевализму (medievalism хочется переписать как midevilism, поскольку Богу оно поклоняется так, что дьявол не мог бы придумать лучше). Это Новейшее средневековье XXI в. отличается от просто Нового средневековья XX в. тем, что оно постсекулярное, постутопическое и постфутуристическое, т. е. опирается на религиозно-национальную традицию, на традиционализм как таковой, и обращено в прошлое, а не в будущее. У него, в отличие от тоталитаризма XX в. (особенно коммунистического), нет опоры внутри западных обществ, оно может рассчитывать лишь на силовую внешнюю экспансию либо на автаркию.
Новейшее средневековье пришло на смену постмодерной эпохе, которая отделяет его от Нового и определяет разницу этих двух средневековий, разницу между фашизмом 1920–1940 гг. и шизофашизмом начала XXI века. Собственно фашизм — цельное мировоззрение, соединяющее расовую теорию, империализм, национализм, ксенофобию, великодержавность, антикапитализм, антидемократизм и антилиберализм. Шизофашизм — это расколотое мировоззрение, своего рода пародия на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная пародия. Это фашистская истерика, за которой скрывается вполне холодное сознание своих меркантильных расчетов. Фашизм проявляется в отчаянной ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, в стремлении искать врагов, подавлять все живое. Но это насильническое, тоталитарное мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает «враг»: недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в странах «пиндостана», проводить там отпуск и т. д. Особо яркая черта шизофашизма — действовать под маской борьбы против фашизма.
Очевидно, не следует путать эти два средневековья, Новое (XX в.) и Новейшее (XXI в.) Последнее, фундаменталистское, традиционалистское, ближе к старому средневековью и, можно надеяться, быстрее уйдет в прошлое вслед за ним.
Топохрон и хронократия
Пытаясь применить бахтинское понятие хронотопа к российско-советской цивилизации, обнаруживаешь любопытную закономерность: хронос в ней вытесняется и поглощается топосом. Хронотоп переворачивается в топохрон, время опространствлено.
Сама история этой страны, как писал еще В. О. Ключевский, состояла в непрерывной колонизации новых земель, завоевании пространства на все четыре стороны света, а затем — как настаивал Н. Ф. Федоров, ссылаясь на распахнутость и «небо-емкость» русской равнины, — и на «пятую» сторону, в направлении открытого космоса. История России — это проекция ее географии, и исторические периоды отмечаются не чисто временными изменениями, а расширениями в пространстве.
«Периоды нашей истории — этапы, последовательно пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны до самой той поры, когда, наконец, он посредством естественного нарождения и поглощения встречных инородцев распространился по всей равнине и даже перешел за ее пределы. Ряд этих периодов — это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине...» [52] В. О. Ключевский. Курс русской истории, часть 1, лекция 2. Сочинения в 8 тт., т. 1, М., Гос. изд. политической литературы, 1956, С. 32.
Поскольку Россия привыкла исторические вопросы решать географически, этой стране принадлежит столь большое место в пространстве, что ей не так уж легко найти свое место во времени. На протяжении последних трех веков, Россия жадно стремилась войти в историю — но лишь для того, чтобы превзойти ее, мгновенно опередить степенно шествующие историческими путями западные народы и оказаться «по ту сторону истории», в царстве остановленного мгновенья и безграничного простора. Среди народов, условно говоря, исторических и неисторических, Россия выбрала свой особый, «сверхисторический» путь: входя в историю, тут же готовиться к выходу из неё.
Время в России вытесняется пространством (физическим и метафизическим) — это архимедов закон погружения большого географического тела в историческую среду. Чем обширнее становилась Россия, тем медленнее текло в ней историческое время — и, наоборот, сокращаясь в пространстве, она убыстрялась во времени. Обременяясь новым пространством, Россия впадала в исторический сон и прострацию, что и получилось в результате победных походов в Европу — 1812 и 1945 годов. И наоборот, после неудачных войн — Крымской, Японской, Первой мировой — Россия теряла частицы своей территории и тут же получала толчок исторического ускорения — реформы и революции. Неудача афганской войны выявила предел пространственного расширения коммунизма — и, подтолкнув империю к перестройке, вызвала ее развал. С отдачей Восточной Европы и республик, сбросив тучное пространство Советского Союза и социалистического лагеря, Россия превратилась в самую динамичную (хотя и потенциально кризисную) часть мира. А как только опять погналась за расширением «русского мира», прихватила части Грузии и Украины, нацелилась на воссоздание империи, — так время в ней не только затормозилось, но и побежало назад. Произошел обратный размен: времени на пространство.
Политический словарь пестрит разнообразными «кратиями»: демократия, аристократия, плутократия, охлократия, автократия, бюрократия… Но одной «кратии» в нем явно недостает. Хронократия (букв, «власть времени», времяправие, времядержавие, от греч. chronos, время + kratos, власть) — диктатура времени как определяющий фактор общественной жизни. Это форма политического устройства, основанная на признании времени решающим фактором обновления структур власти и общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: