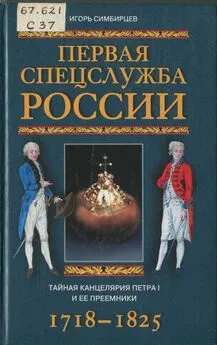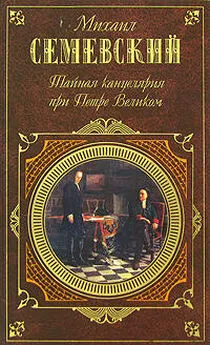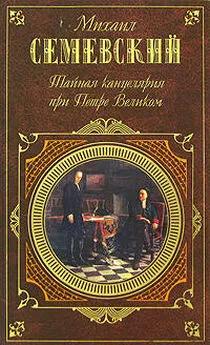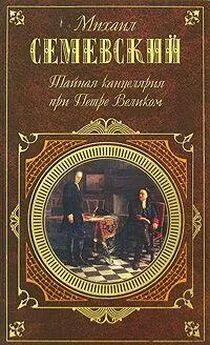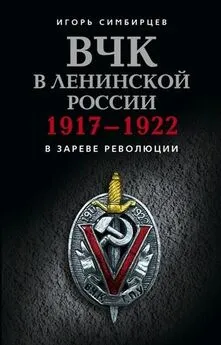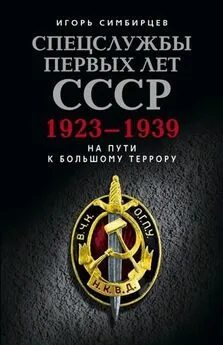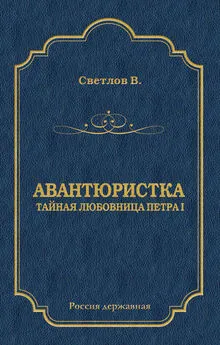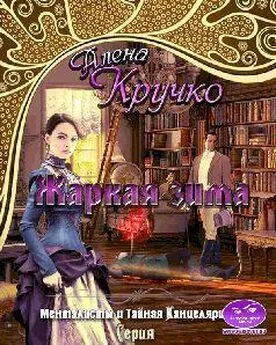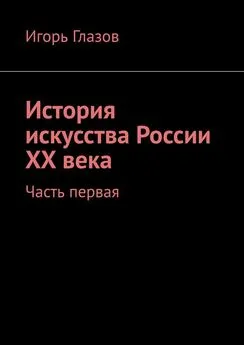Игорь Симбирцев - Первая спецслужба России. Тайная канцелярия Петра I и ее преемники. 1718–1825
- Название:Первая спецслужба России. Тайная канцелярия Петра I и ее преемники. 1718–1825
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2006
- ISBN:5-9524-2038-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Симбирцев - Первая спецслужба России. Тайная канцелярия Петра I и ее преемники. 1718–1825 краткое содержание
Повествование начинается со времен опричнины и продолжается описанием Тайного приказа Алексея Михайловича, Тайной канцелярии Петра I и Екатерины II, Тайной экспедиции Павла I и Особой канцелярии Александра I. Автор рассказывает о формировавших и возглавлявших их ярких и неоднозначных фигурах — Иване Грозном, Петре Толстом, коварном после-разведчике Бестужеве.
Первая спецслужба России. Тайная канцелярия Петра I и ее преемники. 1718–1825 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одним из проектов Барклая-де-Толли в 1810 году стал проект создания Особой канцелярии при Военном министерстве, по аналогу такой же структуры политического сыска при российском МВД. Ее работу Барклай-де-Толли предлагал засекретить даже от других структур Военного министерства, подчинив руководителя канцелярии напрямую себе. Штат этой канцелярии должен был заняться сбором военной информации за рубежом, изучением иностранных армий, тактической разведкой непосредственно на театре боевых действий (полевой разведкой) и пресечением деятельности вражеской агентуры (военной контрразведкой).
Эта структура в полной мере так и не смогла заработать, хотя Барклай-де-Толли успел послать в Европу первых ее агентов под прикрытием дипломатической работы в российских посольствах: майора Пренделя в Пруссию, поручика Брозина в Испанию, майора Граббе в Баварию, полковника Чернышева в наполеоновскую Францию. Барклай успел даже назначить координатором своих военных «корреспондентов» и главой будущего органа военной разведки своего друга Воейкова, но тот прослужил в этой должности недолго. Затем этим органом, прообразом будущей военной разведки России, руководил обрусевший француз на русской службе Яков Санглен, переведенный императором Александром на этот пост уже с поста руководителя чистого тайного сыска в лице Особой канцелярии при МВД. Да и вообще тогда большая. часть этих военных разведчиков под прикрытием были выходцами из числа обрусевших иностранцев на российской службе, так как выполняемые задачи требовали знания языков и обычаев европейских стран. После Санглена «главой военных корреспондентов» послужил и другой француз — маркиз де Лезер, эмигрант-монархист на службе русского царя.
При этом по просьбе своего министра император Александр в личных депешах своим послам в европейских столицах поручил оказывать всяческое содействие посланным к ним представителям военной разведки и не вмешиваться без надобности в их работу. Такая система действовала в XX веке при взаимодействии в зарубежных представительствах СССР военных разведчиков ГРУ, представителей внешней разведки КГБ и «чистых дипломатов» из системы МИДа. Этот проект создания «романовского ГРУ» развития не получил, после окончания войны с Наполеоном, когда спала опасность прямого вооруженного конфликта, Особая канцелярия при Военном министерстве была признана отслужившей свое время, создание постоянного и централизованного органа военной разведки в России тем самым было отложено до конца XIX века.
В период войны с Наполеоном в истории российской разведки открыта и еще одна новая страница. Впервые кадровые российские офицеры и разведчики в 1812 году посылались за линию фронта для руководства стихийно возникшими из крестьян партизанскими отрядами или формирования таких отрядов, а также для прямых диверсий в тылу французских войск. Никогда до 1812 года такой диверсионный элемент ведения тайной войны широко не применялся в ведении российской армией боевых действий, да и другие современные армии его так не использовали. Хотя военные историки указывают на акции партизан в тылу и наступавших на Москву в «смутные годы» начала XVII века поляков, и шедших век спустя украинскими степями к Полтаве шведов Карла XII, и даже в тылу наступавших на Русь монголов хана Батыя, если вспомнить «Сказание о Евпатии Коловрате». И сами русские войска при входе на чужую территорию сталкивались с партизанским движением чужого населения. В Русско-шведскую войну в 1808 году российская армия на территории Финляндии была буквально затерроризирована финскими и шведскими партизанами, как веком позднее в этих же краях будет финским партизанским движением временно парализована Красная армия в ходе Зимней войны 1940 года.
Но до 1812 года это все были стихийные акции местного населения. Французы Наполеона же в 1812 году столкнулись с первой партизанской кампанией, руководимой непосредственно офицерами и разведчиками противостоящей им российской армии, а часть партизанских отрядов составляли в тылу французов засланные за линию фронта регулярные части русских гусар и казаков, как знаменитый «летучий эскадрон» поэта-партизана Дениса Давыдова. Недаром французская армия была так поражена «дубиной народной войны» в своем тылу, столкнувшись с ней только в России и Испании. Почти во всех мемуарах наполеоновских полководцев об испанской и российской кампаниях Бонапарта сквозит недоумение по поводу такого «варварского» диверсионного способа ведения войны в их тылу, недопустимым с французской точки зрения.
Позднее российская история царского периода, а за ней и советская писала об этом партизанском движении 1812 года только в восторженных тонах, скромно умалчивая о жестокостях и мародерстве некоторых таких отрядов во французском тылу. Прославляя имена «летучего гусара» и поэта Дениса Давыдова или крестьянки-партизанки Василисы Кожиной, не слишком вспоминали о другом выдающемся русском диверсанте из военной разведки и командире партизанского движения 1812 года — Александре Фигнере. А Фигнер — настоящая легенда истории российских диверсантов, прадедушка всех спецназов и диверсионных групп советского ГРУ. Его отряд наводил ужас в тылу французов, в ноябре 1812 года у села Ляхово он вместе с Давыдовым и Сеславиным руководил самой крупной партизанской операцией той войны, разгромив из засады французскую бригаду генерала Ожеро. При этом Фигнер лично и в одиночку совершал диверсии в тылу армии Наполеона, проникая туда в мундире французского офицера и пользуясь знанием пяти иностранных языков. Он же был автором и исполнителем плана покушения на Наполеона, когда пробраться в занятой врагом Москве в Кремль ему помешали только караульные гвардейцы французского императора. А не упоминать Фигнера в качестве героя диверсионно-партизанской войны в кампанию 1812 года предпочитали по причине его не самой лучшей славы. Гений диверсионных акций, явно превосходивший в этом Дениса Давыдова, не обладал шармом и благородством поэта-партизана, а был злобным садистом. Он не чурался грабежа пленных, а также лично пытал и расстреливал попавших к нему в руки французов десятками, даже пытался выпросить себе для расправы пленных из отряда Давыдова, но наткнулся на презрительный отказ коллеги по партизанской борьбе.
Французы Фигнера ненавидели, сам Наполеон называл его «немцем по происхождению, но в деле настоящим татарином». И даже те российские дворяне из героев войны 1812 года, которые признавали только открытый бой и сговаривались между собой не стрелять в храброго безумца, наполеоновского маршала Мюрата, летавшего перед их частями на коне в роскошном мундире из презрения к смерти, даже они презирали и чурались партизанского гения Фигнера. В мемуарах даже русских участников той войны о знатном диверсанте осталось масса записей типа «бесчеловечный варвар» или «алчный к смертоубийству».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: