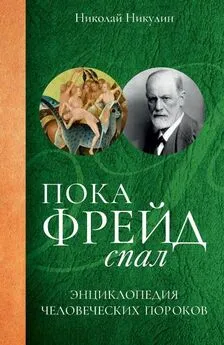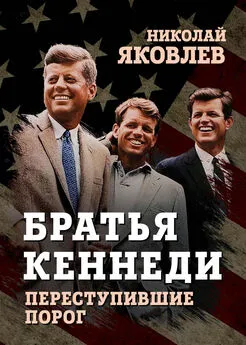Николай Никулин - От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров
- Название:От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-104156-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Никулин - От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров краткое содержание
От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, и улица призывала к себе своей безграничной вседозволенностью. Коммунальные стенки тут не имели власти. Как и строгие правила – улица не учит ни хорошему, ни плохому, она зовет играть. «Эна дуна рэс. Финтер минтер жес. Эна дуна раба. Финтер минтер жаба» – в этой детской считалочке тех лет столько же смысла, сколько в уличных приключениях. Андрей постигал жизнь во всей ее полноте и не гнушался самых разных обществ. И если уличное образование носило прозаический характер, то, например, школьное – вполне поэтический. В девятом классе вместе со своим другом Владимиром Куриленко в знак любви к поэзии Серебряного века он создал общество «Фиолетовые руки» («Фиолетовые руки/На эмалевой стене/Полусонно чертят звуки/В звонко-звучной тишине» (В. Брюсов). А в драмкружке ставил спектакли. Трудно сказать, сколько было в них художественной ценности, но девочки охотно приходили, да и любимую музыку можно было поставить под столь высоким предлогом. Звучали, между прочим, джазовые композиции, что, собственно, было довольно рискованно. Однако Андрея едва ли что-нибудь могло напугать – он вообще много чего рискованного делал, даже надевал привлекающий внимание желтый пиджак. Ну а что в этом плохого? Чувство прекрасного отражается и на внешнем виде человека. Как сказал Оскар Уайльд: «У тех, кто видит хотя бы малейшее различие между душой и телом, нет ни той, ни другого».
АНДРЕЯ ЕДВА ЛИ ЧТО-НИБУДЬ МОГЛО НАПУГАТЬ – ОН ВООБЩЕ МНОГО ЧЕГО РИСКОВАННОГО ДЕЛАЛ: ДАЖЕ НАДЕВАЛ ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВНИМАНИЕ ЖЕЛТЫЙ ПИДЖАК. НУ А ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО? ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО ОТРАЖАЕТСЯ И НА ВНЕШНЕМ ВИДЕ ЧЕЛОВЕКА.
Закономерно, что Тарковский в результате поступил во ВГИК – главный в стране институт, где учили кино понимать, ощущать и видеть. Было легко, потому что кассовые сборы картин ничего не значили и голосом массового зрителя легко можно было пренебречь. Но приходилось сталкиваться и со сложностями – например, мириться с существованием такого идеологического монстра, как соцреализм. Придумал историю про любовь мужчины и женщины – это психологическая драма. Придумал историю, где мужчина любит Родину, пренебрегая знаками внимания легкомысленных девиц, – это соцреализм. Впрочем, достаточно было добавить в картину фигуру Ленина, и она немедленно становилась образцовой.
В искусстве, разумеется, нет четких границ. Можно работать с навязанным содержанием во вполне искусных формах. Например, знаменитую ленту Михаила Ромма «Ленин в Октябре» (1937) не назвать пропагандистским кино – в нем есть и глубина, и повествовательная плотность, и художественная сила. Однако вряд ли в жизни страны не было любых других тем для осмысления. Но Ромм тем не менее сделал то, что захотел сам. И этим вошел в кино. И не только этим, а еще тем, что был и учеником Сергея Эйзенштейна, и учителем Андрея Тарковского! Под опекой Ромма много кто постигал таинства искусства. Нельзя не вспомнить и про Василия Шукшина. Они с Тарковским, что удивительно, совсем друг у друга не учились, зато учились друг с другом.
И вот уже в курсовом фильме Тарковского «Убийцы» (1956) они сошлись вместе: героя Оле Андресона, которого по немыслимым причинам желают убить, сыграл Шукшин. Тарковский поставил сцену в кафе, куда приходят убийцы в поисках заказанной жертвы. Основа сюжета – одноименный хлесткий рассказ Эрнеста Хемингуэя, в котором больше метких диалогов, чем ясности. Зачем эти убийцы ищут бывшего боксера Оле? «Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?» – это, конечно, не ответ. Но Хемингуэй и не любил прямых ответов. Он никогда не просился в пророки и уж тем более не претендовал на то, чтобы быть голосом совести. «Все, что писатель смеет сказать людям, он должен не говорить, а писать», – произнес писатель в нобелевской речи.
Не удивительно, что Тарковский взялся за экранизацию рассказа американского бунтаря. Хотя, чего уж там, его любил читать весь Советский Союз.
Дипломным фильмом Андрея Тарковского стал «Каток и скрипка» (1960). Разумеется, так и просится на язык мысль о том, что это притча о дружбе рабочего класса и интеллигенции. На молодого скрипача Сашу косо смотрят во дворе местные хулиганы. Мальчику бы нотную грамоту изучать да уроки в музыкальной школе не прогуливать, а тут такие жизненные барьеры. Что сказать? Спаситель нашелся – и стал им водитель катка Сергей. Интерпретации – дело неблагодарное. Всякий норовит присвоить себе главный смысл. То, что честный работяга заступается за умного мальчугана, для убежденного комсомольского кинокритика означает одно: вот оно – благородство пролетариата! Для многих же биографов режиссера, не менее отягощенных готовыми формулами, трактовка очевидна в другом: Сергей не столько спаситель, сколько образ отца, без которого рос Тарковский.
Впрочем, подобные толкования можно в массе своей найти и в первом большом фильме режиссера. Сценарий по рассказу Владимира Богомолова «Иван» счастливым образом попал в руки Тарковского – изначально картину, по замыслу «Мосфильма», должен был ставить Эдуард Абалов. Ничего особенного сценарий из себя не представлял: военная тематика, каковых было немало в советском кино, даже раскрытая сквозь призму детского восприятия, прямо скажем, никакой новизны в себе не таила. Да, война – это страшно. Да, война жестока, и лучше бы ее никогда не было. Однако эти слова не откровения, а химеры сознания. Что поделать, отечественная история научила плохому: то, что в словаре избитых метафор война чаще всего соседствует с безумием, говорит о кровавом опыте двадцатого века больше, чем о неоригинальной фантазии составителей этого словаря.
ПРО ФИЛЬМ «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (1966) МОЖНО БЫЛО БЫ ПРИВЕСТИ ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛОСОФОВ ЛЮБОГО НАПРАВЛЕНИЯ – УЖ БОЛЬНО ГЛУБОКИМ ОН ВЫШЕЛ. ВСЕ БУДЕТ ОДНОВРЕМЕННО И ПРО ТО, И НЕ СОВСЕМ.
Для Тарковского между тем это была и возможность разобраться со своим детством. Перефразируя Шекспира, можно сказать, что жизнь – это повесть, рассказанная ребенком, в которой много шума и страстей, но мало смысла. А какой может быть смысл в смерти матери, гибели деревни, да и вообще кровавых расправах? Фильм «Иваново детство» (1962) не столько рассказывал о ненависти ребенка к окружающему миру, скрытой мести ему, сколько был режиссерским «откровением»: недаром его сны имеют такое значение в ленте. Конечно, без исполнившего главную роль Николая Бурляева получился бы совсем другой фильм. Но не будем лукавить: и без венецианского триумфа («Золотой лев» в 1962 году), и без отклика представителей думающей части человечества, право слово, фильм имел бы иную судьбу. Даже французскому философу Жан-Полю Сартру – должно быть, он оказался чрезвычайно впечатлительной натурой – не терпелось высказаться о нем. В судьбе Ивана – о счастье! – ему удалось найти явственное воплощение своих экзистенциальных идей. Помните его мантры: «Человек брошен в этот мир», «Человек – это проект самого себя», а также: «Если Бога нет, то все дозволено», приписанную им Достоевскому. Сартр высказался о фильме, словно желая в кратком изложении пересказать свою работу «Экзистенциализм – это гуманизм»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
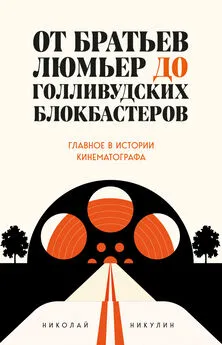
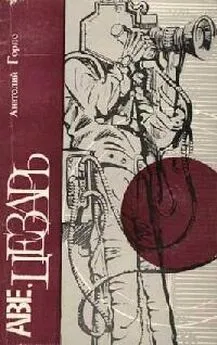
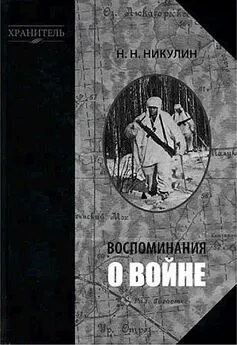
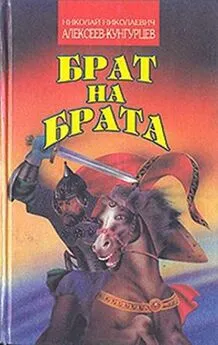
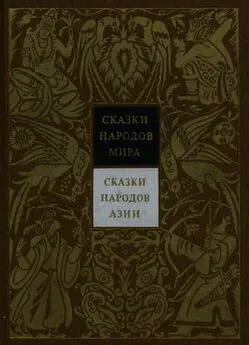
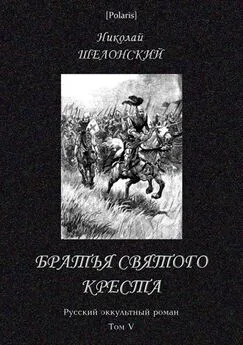
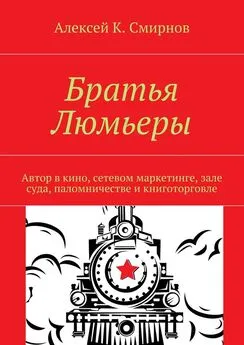
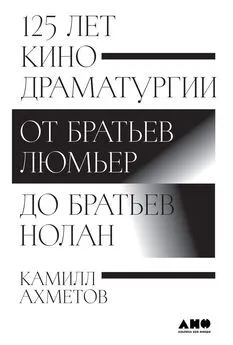
![Николай Дронт - Брат [≈ Ещё раз] [litres]](/books/1060750/nikolaj-dront-brat-eche-raz-litres.webp)