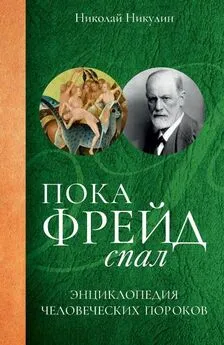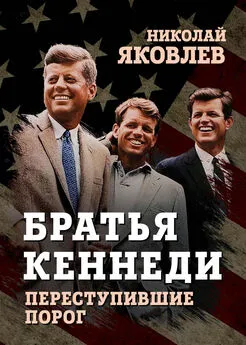Николай Никулин - От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров
- Название:От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-104156-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Никулин - От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров краткое содержание
От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ЭЙЗЕНШТЕЙН СИМВОЛИЧНЫМ МОГ СДЕЛАТЬ ВСЕ: ВОССТАНИЕ НА БРОНЕНОСЦЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ВОССТАНИЕ, ЭНЦИКЛОПЕ-ДИЧЕСКАЯ СЦЕНА С ЛЕСТНИЦЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СЦЕНА, ТОЛКАЮЩАЯ СЮЖЕТ.
Здесь Эйзенштейн развернулся со всей своей теоретической проворностью, монтажными затеями и аттракционной находчивостью. Думал ли он, что его творение будет иметь и кассовый успех, которому могли позавидовать голливудские ленты? Ожидал ли столь теплого приема со стороны зрителей? Тщеславие – тот порок, в который искусно наряжается скромность. Проявлять скромность открыто – кокетство для художника. Тщеславие же заряжает уверенностью в себе и своих грандиозных планах. 24 декабря 1925 года на предпоказе в Большом театре Эйзенштейн предстал победителем: это ему удалось создать тот революционный фильм, на который будут ориентироваться как пропагандисты, так и формалисты. Верхи могли сказать: «Изумительно!», а низы хотели смотреть картину бесконечно.
Рассказывая о ленте, преступно не вспомнить о Потемкинской лестнице, как преступно для одесского экскурсовода не показать ее туристу. Сцена с паническим народным бегством, нарушающая законы времени, но педантично следующая правилу единства места, щедрая на крупные планы, психологию и чисто литературный прием «опишем же происходящее подробнее». Заметьте, в книгах во время какого-нибудь события иной раз время словно ставится «на паузу», чтобы уделить внимание деталям того или иного персонажа. Для кино эта схема непривычна, но для Эйзенштейна нет ничего невозможного. Вот мать с детской коляской – а люди кругом истерично бегут и бегут, вот в мать стреляют, и коляска неминуемо начинает скатываться – а люди продолжают бежать, коляска набирает скорость – люди по-прежнему бегут в разные стороны. Магия в том, что для зрителя беззащитный ребенок, съезжающий в роковую неизвестность, создает новое переживание (ведь нельзя абстрактно переживать просто за всех), а для режиссера – возможность ограниченному числу участников массовки сбегать по лестнице неограниченное число раз.
Надо ли говорить, как много в этой сцене символического. Это не грубый пафос или искусствоведческая трусость перед очевидными смыслами. «Символично» – значит наделено не одним пониманием. Иногда даже помимо воли автора. Эйзенштейн, впрочем, символичным мог сделать все: восстание на броненосце больше, чем просто восстание, энциклопедическая сцена с лестницей больше, чем просто сцена, толкающая сюжет. Да что там! В каждом кадре можно найти пищу для ума – особенно если смотреть картину голодным.
ИСКУССТВО – ТО, ЧТО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИЦЕ СВОБОДЫ И НЕСВОБОДЫ, ЯСНОГО И ТУМАННОГО, ДОСТУПНОГО И САКРАЛЬНОГО. ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО В НОВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СТРАНЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Дабы не впадать в бесплодное, отвлеченное умствование, приведем пример с взревевшим мраморным львом, ожившим благодаря монтажному искусству. Лев встает после выстрела броненосца, не то напуганный, не то бросающийся в бой. Словом, пусть это будет неразрешимым домашним заданием для тех, кто предпочитает разгадывать ребусы, раз уж и прозорливые киноведы по-прежнему не в силах единогласно его трактовать. Эйзенштейн, будучи в Алупке, снял трех львов в разных положениях – встретил их он, к слову, ненамеренно. Но разве можно было отказаться от такой идеи, ведь выходило так, что в склейке они могли передать пылкое движение. Правда, неприветливый местный сторож настойчиво мешал, повторяя предсказуемые слова: «Не разрешено снимать» (как часто кинематографистам приходится сталкиваться с этой фразой!). Сторож даже вредности ради сел на голову льву, тщась сорвать съемку. Его стоптанные сапоги и неприглядные штаны чуть-чуть не вылезли на экран, но испортить опыт по оживлению скульптуры ему не удалось. Тем более что на стороне Эйзенштейна и его придумки был сам Пушкин, который уже по-франкенштейновски оживлял мраморных львов в «Медном всаднике».
Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые.
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений.
Пытливый ум и здесь найдет символическую перекличку двух классиков.
В «Октябре» (1927), поставленном к юбилею революции, режиссер, будучи признанным мастером, мог позволить себе прежние эксперименты без боязни прослыть сторонником «искусства ради искусства». Его фильм, конечно же, должен был решать совершенно определенную задачу – прославление октябрьского переворота, изображение праведного народного гнева. Но средства-то ему никто не мог навязать: «как следует» знают партийные руководители, художник же делает, как подсказывает его чутье. И если желание власти можно было проиллюстрировать словами: «Историк строгий гонит вас!», то ответ Эйзенштейна – другими пушкинскими строчками: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман…»
Не то чтобы на экране история была переврана, искажена, но ведь абсолютно точно доведена до какой-то патетической ноты. И совсем не виноват режиссер, что его художественная правда расценивается нынче простодушными зрителями как правда историческая – видимо, в том и сила искусства. Сегодня ни один документальный фильм о революции не обходится без кадров из «Октября», причем выданных – вольно или невольно – за документальную хронику. Ведь и смешной Ленин, произносящий «Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась!» – запомнился многим именно таким: совсем не страшным или, прости Господи, кровавым, а каким-то домашним, своим. Поэт Сергей Есенин выразил это предельно точно: «Скажи, Кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он – вы».
НУ НЕ ЖЕЛАЛ СТАЛИН ДЕРЖАТЬ ПРИЗНАННОГО МЭТРА НА РАССТОЯНИИ – ИЗ ЖАДНОСТИ ЛИ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬ-НОСТИ, ОТВЕТА НЕТ: РЕНТГЕНОВ-СКИХ СНИМКОВ ДУШИ СОВЕТСКОГО ТИРАНА НЕ СОХРАНИЛОСЬ. НО ОТЧЕГО-ТО И РАБОТАТЬ НА РОДИНЕ ЭЙЗЕНШТЕЙНУ НЕ ДАВАЛИ.
В ленте «Старое и новое» («Генеральная линия») (1929) впервые появляется персонализированный герой: не абстрактный народ, не умозрительный призрак Ленина, а самая настоящая крестьянская баба. Марфа Лапкина, впрочем, не тот человек, вокруг которого строится сюжетная линия, – она, по обыкновению, стихийно-метафорична. Коммунизм пришел в деревню – как крестьянам с этим жить? Но Марфа знает ответ: «Сообща!» И знает в силу не революционной сознательности, а чисто женской интуиции. Ведь именно в слабой и терпеливой женской груди, как известно, раздается самый сильный голос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
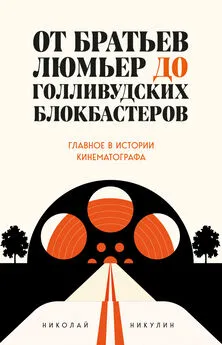
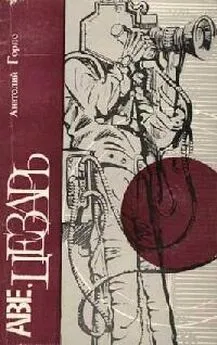
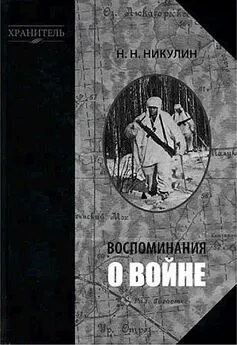
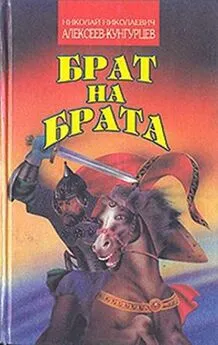
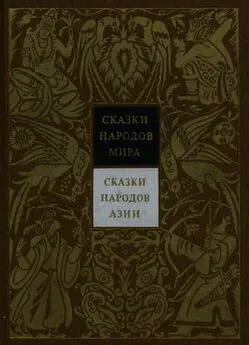
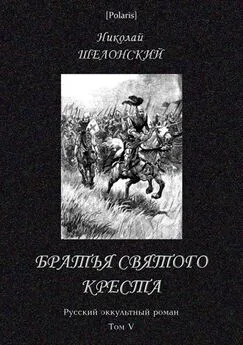
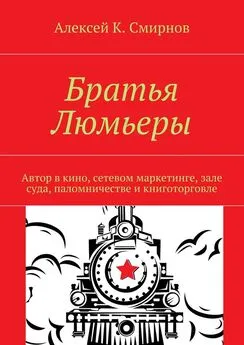
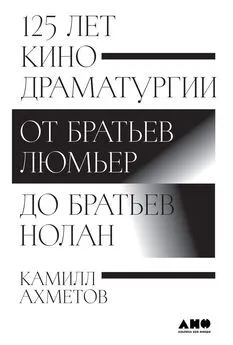
![Николай Дронт - Брат [≈ Ещё раз] [litres]](/books/1060750/nikolaj-dront-brat-eche-raz-litres.webp)