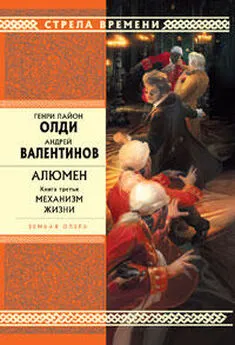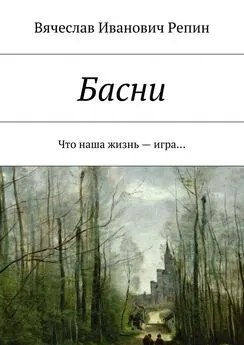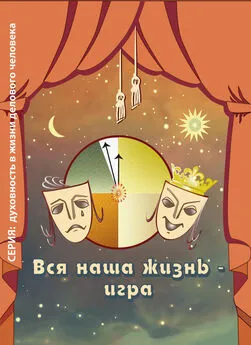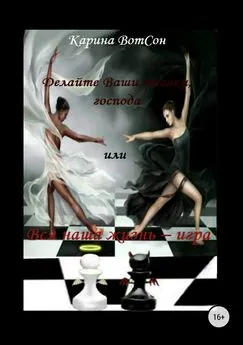Генри Олди - Что наша жизнь? – игра…
- Название:Что наша жизнь? – игра…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Генри Олди - Что наша жизнь? – игра… краткое содержание
Что наша жизнь? – игра… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это понимаешь, когда смотришь на свои собственные книги со стороны. Со стороны читателя или литературоведа. Но, как правило, автор смотрит изнутри, поэтому стиль для него – форма существования. Здесь не кроется рассудочных соображений: это делаем для воспитания, это – для обучения "разумному, доброму, вечному", еще для каких-то целей. Стиль царит инстинктивно. Так пишу, так выражаю свои мысли, чувства и идеи; наверное, мог бы иначе, но вряд ли это выйдет естественно. Глядя на «свеженаписанный» текст, автор, уже зная концепцию будущей книги, воспринимает «готовность» текста с позиций: живой он или неживой. С позиций его вкусов и пристрастий; с точки зрения, как бы он сам хотел прочесть эту книгу, если бы ее написал кто-то другой.
Одному по душе "упрощенно-телеграфный" стиль. Когда вместо книги читатель получает сценарий: видеоряд, звукоряд, действие, персонажи. Другому хочется полифонии, умело-сложных предложений, на которые бы у чтеца хватало дыхания вне зависимости от их сложности.
Хочется фуги, а не шлягера.
И категорически не хочется цензора за спиной, хоть внутреннего, хоть внешнего, с его саркастическим: "А ведь этого читатель не поймет… Сократи, а?" Читатель поймет. Он поймет больше, чем писатель сказал. У нас хороший читатель. Заслуживающий любви и уважения.
Хотя, скажем, честно, мы с Вами присутствуем при усыхании жанра романа. Еще совсем недавно (впрочем, и давно тоже) классический роман – Толстой, Гюго, Дюма, Сервантес… – предполагал большой объем книги (от 40 до 70—80 авторских листов; поэтому один роман чаще издавался двух – или трехтомником), несколько основных сюжетных линий (больше двух), большое количество персонажей, отступления философские и лирические, массивный пространственно-временной континуум… Зря, что ли, во Франции существовал термин «роман-река»? Ортега-и-Гассет в своих "Мыслях о романе" пишет следующее:
"Нет, не сюжет служит источником наслаждения, – нам вовсе не важно знать, что произойдет с тем или иным персонажем. И вот доказательство: сюжет любого романа можно изложить в двух словах. Но тогда он совершенно неинтересен. Мы хотим, чтобы автор остановился, чтобы он несколько раз обвел нас вокруг своих героев. Мы лишь тогда получим удовольствие, когда по-настоящему познакомимся с ними, поймем, постигнем их мир, привыкнем к ним, как привыкаешь к старым друзьям, о которых известно все и которые при каждой встрече щедро дарят богатство души. Вот почему, в сущности, роман – замедленный жанр, как говорил, не помню, Гете или Новалис. Более того, современный роман – жанр медлительный и должен быть таковым в противоположность сказке, приключенческой повести, мелодраме."
Когда мы начинали работать, в издательствах роман уже воспринимали как 25—30 авторских листов. Сейчас берем в руки книгу, читаем: «роман» – но книга объемом в 12—15 а. л. Две сюжетные линии – редкость, излишество, о трех не говорим. Количество персонажей стремительно уменьшается (читателю трудно запомнить?), язык строится на простых предложениях, словарный запас урезан, чтоб не сказать, кастрирован; преимущественно в работе у автора глаголы и существительные (действие и предмет действия), временами в "дамской фэнтези" для красоты громоздятся эвересты прилагательных (алый бархатный вихрящийся плащ на хрупких девичьих плечах…) – но роман по большому счету превратился в крупную повесть. И принято его читать за один вечер, не проникая за первичный пласт сюжета.
Скоро, видимо, роман превратится в рассказ.
События будут заменены на «экшн», люди – на манекенов.
Событийно-действенный анализ текста предполагает понятия «событие» и «действие». Событие: факт, явление или поступок, меняющий мотивации и задачи действующих лиц. Это принципиально: менять мотивы. Например, если у героя главный мотив – "выжить в царящем беспределе", то взрыв бензоколонки, погоня по чердакам и перестрелка у казино для нас не являются цепочкой настоящих событий, ибо не меняют главного мотива в поведении человека. А если во время перестрелки он встретил старика-инвалида и теперь у него появился доминантный мотив «спасти несчастного», то вот здесь и произошло событие – встреча со стариком. Потому что действие – последовательное изменение мотивов, взглядов и психики героев.
Если взять и задуматься: какое событие происходит в начале "Властелина Колец", когда Гэндальф показывает Фродо кольцо? Ведь в сущности для маленького хоббита хоть кольцо, хоть браслет покажи – он еще не понимает ничего. Значит, его мотивация от того, что дали в руки колечко, не изменилась. Значит, не это было событием. Где источник? Где событие?!
Помните: Гэндальф выскочил из норы, а Фродо ему кричит: “Куда ты бежишь, что происходит, я ничего не понимаю?!”, и Гэндальф отвечает: “Я тоже ничего не понимаю!”?
Сейчас мы думаем над самой важной вещью: над истинным сюжетом. Не на уровне: зашел, открыл дверь… Где сюжет лежит на глубине подсознания? А событие-то очевидное: маленький человек узнает, что вокруг него идет война. И это событие диктует его цели до конца книги. Прекратить войну любой ценой. Мотивация его поступков с этого момента кардинально меняется: оказывается, война! Поняв это, сразу выходишь за пределы формального (у этого борода и посох, а у этого волосатые пятки) и идешь дальше. Магия истинного сюжета тянет на глубину.
Еще раз: события – поступки, явления или факты, изменяющие мотивацию, а действие – собственно цепочка изменений. Все приключения Стивена Сигала в захваченном террористами поезде для нас не являются событиями, ибо ничего не меняют в самом Сигале, и считать эту цепочку событийно-действенной мы наивно отказываемся. Это «экшн», ложная цепочка, приманка для слабых. А вот в "Графе Монте-Кристо" есть цепочка настоящих событий, делающая из восторженного юноши Эдмона – мрачного узника, из мрачного узника – блестящего вельможу, из вельможи – дотла сожженного собственной местью человека, опустошенного графа Голгофу (Монте-Кристо – Гора Христова).
Кстати, идейно-тематический анализ (чуете?! тоской смертной запахло!..) – штука не менее увлекательная, если копнуть всерьез. Тема – о чем пишем. Идея – зачем пишем. А концепция книги – симбиоз темы и идеи.
Сращивание лука, стрелы, стрелка, ветра, расстояния и – мишени.
Лук? Стрела?
Фэнтези? – ухмыльнется сноб.
Ну что ж, если принять за условную основу стандартный джентльменский набор: маги-бароны-драконы, эльфы-гномы-благородные воители, условное европейское средневековье… То бишь декорации привычного многим спектакля. Боимся, мы с нашим скверным характером только испортим зеленую лужайку, место для славного пикника легкокрылых эскапистов. Начнем вспоминать, что в средневеково-европейских городах выливали помои и ночные горшки с балконов на улицу – на головы благородным воителям. Что маги платили за свое мастерство так дорого и ужасно, как не снилось никому, мечтающему по ночам о волшебной палочке. Что зимой в замках-дворцах было чертовски холодно, и под кринолин приходилось пялить валенки. Что походы чреваты водянками и стертыми ногами, что бароны воняли чесноком и перегаром, и жизнь человека вполне могла пройти от начала до конца в исключительно увлекательном занятии – окучивании репы. Что героя из нашего мира, попавшего в такой мир, прирежут на первом километре ради его ботинок…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: