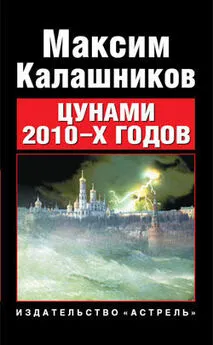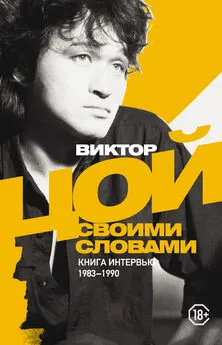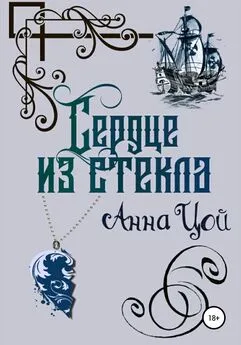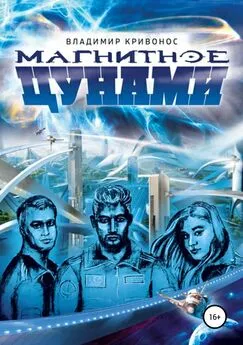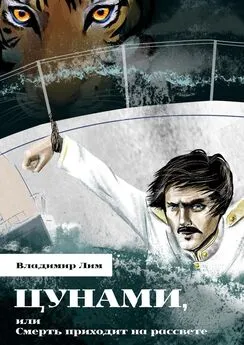Владимир Цой - Кто нагнал цунами?
- Название:Кто нагнал цунами?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Цой - Кто нагнал цунами? краткое содержание
Кто нагнал цунами? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так начался наш переезд – в антисанитарных условиях с неимоверными трудностями. Свежей водой могли запастись только на разъездах, если останавливался поезд. В крупных населённых пунктах обычно поезд не останавливался, зато на разъездах нас загоняли в тупик на два – три часа. Тогда начиналась беготня – кто за хлебом, кто за водой, кто искал дровишки, чтоб сварить что-нибудь съестное. Если не успевали сварить, котел заносили в вагон и доваривали на следующей остановке. Были случаи, когда приходили работники железной дороги и пинками выбрасывали кастрюли с варевом. В соседних вагонах умирали старики, которых уносили куда-то, женщины рожали детей. В таких кошмарных условиях мы ехали целый месяц. Уму непостижимо, как могли люди всё это выдержать.
На одном разъезде, недалеко от Спасска-Дальнего, рядом оказались два эшелона: один наш, другой – сформировавшийся в Спасске-Дальнем. На этом разъезде чуть не произошла большая трагедия с фатальными последствиями. Как только остановились эшелоны, все молодые ринулись с вёдрами за водой. А всего-то на станции была одна колонка, поэтому выстроилась очередь длиною в километр. Всем нужна была вода, особенно тем, у кого остались в вагоне больные старики и дети. Кому-то нужна была вода срочно, кто-то не хотел ждать своей очереди, и на этой почве началась перебранка. Чувства перехлестнули здравый смысл, и пошла сначала мелкая потасовка, которая переросла в злобную драку между людьми из двух эшелонов. Это было настоящее “мамаево” побоище. Сопровождавшие милиционеры кое-как выстрелами вверх разняли дерущихся и погнали всех в вагоны. Конечно, многие остались без воды, а другие – с увечьями. Так своим разгильдяйством начальнички спровоцировали драку. Правда, потом уже никогда не ставили два эшелона на одной станции.
В Хабаровске поезд стоял около двух часов. Всем нам разрешили посмотреть достопримечательности города. До сих пор не могу понять, с какой целью это было сделано. По-видимому, начальство решило, что корейцы уже больше никогда не вернутся в эти края и поэтому пусть посмотрят в последний раз город.
А ещё труднее было с туалетом – помыться, справить нужду негде. Больные старики оправлялись прямо в вагоне, молодые ещё терпели и ждали остановки. А на остановках все выбегали, садились и женщины, и мужчины прямо на виду у всех. Обстоятельства вынуждали людей терять стыд. Один пожилой мужчина залез под вагон по нужде, но вдруг поезд подался вперед, а потом назад и остановился. Старика сильно ударило колесом, но не раздавило. От сильного ушиба он потерял сознание и истекал кровью. Молодые быстро унесли на руках в санпост. Человек выжил, потом мы его видели на подходе к Узбекистану. Иногда, вспоминая все эти ужасы “переселения”, я прихожу к выводу, что нас вывозили из Дальнего Востока как скот.
Когда проезжали “славное море, священный Байкал», красота озера поразила всех. Я впервые увидел длинный мост, тоннель. Мне было очень больно покидать такой красивый край. Впоследствии, сват Когай Николай рассказывал, что, проезжая мимо, люди выкидывали завернутые в тряпки трупы своих родных из вагонов прямо в Байкал. О славный Байкал, думал ли ты, что когда-нибудь примешь такой “подарок” в свои воды? Какую силу, какой моральный дух надо было иметь людям, чтобы всё это вынести и не сломаться.
В Новосибирске поезд стоял полдня. Объявили банный день. В приказном порядке все должны были сходить в баню. Но старики, особенно больные, конечно, оставались в вагонах, а молодёжь выполнила этот приказ. Потом я понял: высшее начальство боялось, что корейцы могут завести инфекцию, эпидемию какой-нибудь болезни в места, куда их выселяли.
Когда подъезжали к границе Казахстана, в соседнем вагоне у женщины умер грудной ребёнок. Он простудился от сквозняков, от купания в прохладной воде, а лечить не было возможности. Надо было его хоронить, а где взять доски для гробика? Родственники ходили по вагонам в поисках каких-нибудь дощечек. Одна женщина отдала им старенькое маленькое деревянное корытце, освободив его от продуктов. Оно оказалось впору, чтобы уложить в него младенца. Накрыли его бумагой, картонками, старой материей, перевязали верёвочками и стали ждать остановки, которой долго не было. Наконец, поезд остановился на каком-то полустанке на полчаса. За это время люди вырыли могилку – кто палками, кто маленькой тяпкой, а то и руками, чтобы предать младенца земле. Все были удручены этим событием и ещё долго по ночам говорили о том, что может статься с несчастной матерью. Говорили, что время – лучший лекарь. И я, ещё молодой, подумал, что женщина-мать забудет своего младенца и нарожает ещё много других детей. Вспоминая всё это, я содрогаюсь при мысли, что у нас в вагоне, в нашей семье тоже могло такое случиться.
Со станции Арысь по ошибке начальника поезда наш эшелон отправили в сторону Кзыл-Орды. Долго мы ехали по безжизненным сухим степям Казахстана и на всём пути не встретили ни один населённый пункт. Потом повернули нас обратно и всю ночь и день без остановки везли до станции Арысь. Было очень трудно – без воды, без еды, без туалета. А когда приехали, объявили, что наш состав будет тут стоять два часа. Я решил пойти на базар купить арбуз для больного отца. Когда вернулся, эшелона нашего не было. Я не растерялся, хотя был деревенским юношей, обратился за помощью к начальнику станции. Пришлось долго объяснять, так как по-русски говорил я очень плохо. Но начальник сам лично посадил меня в пассажирский вагон, и уже через три станции я встретился со своими. Можно понять, какую тревогу, страх пережила моя семья. Тогда я думал, что есть хорошие люди (начальник станции), а вообще это, оказывается, была их обязанность – не оставлять переселенцев по дороге, обязательно доставлять их на место назначения.
В Чимкенте мы впервые увидели поля хлопчатника, колхозников, работающих до позднего вечера. Что-то знакомое почудилось нам, защемило сердце. Видели виноградники, бахчевые поля, но всё это встревожило нас – какова будет дальнейшая наша судьба в чужом краю.
В Ташкент приехали днём. Мы все знали, что Ташкент – город хлебный. Всем хотелось посмотреть на этот “хлебный” город, но никому не разрешалось выходить из вагонов. В окно мы видели, как забегало начальство с бумагами. Всё-таки некоторые смельчаки выбегали на перрон, покупали узбекские лепёшки, виноград и другие фрукты. Всё это для нас было в диковинку, особенно сладкий виноград. Ведь на Дальнем Востоке виноград был мелкий и кислый. Поезд тронулся через двадцать минут, и мы поехали дальше.
Ровно через месяц, 9 октября 1937 года, наш эшелон из пятнадцати вагонов, наконец, прибыл в пункт назначения – на семьдесят второй разъезд, наверное, Туркестанско-Сибирской железной дороги, – в Паст-Даргомский район Самаркандской области Узбекской ССР. Так закончилась наша трагическая эпопея переселения. Мы проехали следующие крупные населённые пункты: Уссурийск, Спасск-Дальний, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Семипалатинск, Алма-Ата, Джамбул, Чимкент, Ташкент, Джизак, Самарканд и остановились на маленьком разъезде номер семьдесят два…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
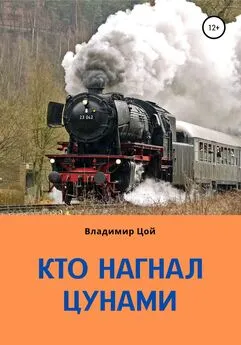

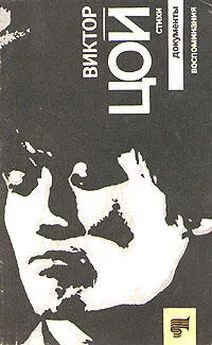
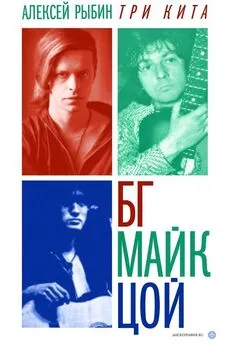
![Владимир Кривонос - Магнитное цунами [SelfPub, 16+]](/books/1086900/vladimir-krivonos-magnitnoe-cunami-selfpub-16.webp)
![Владимир Стрельников - Операция «Цунами» [СИ]](/books/1094674/vladimir-strelnikov-operaciya-cunami-si.webp)