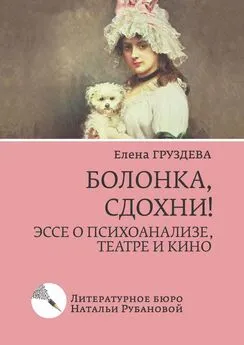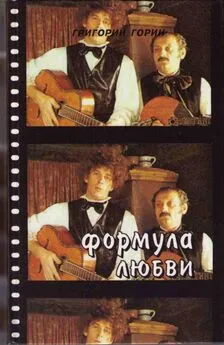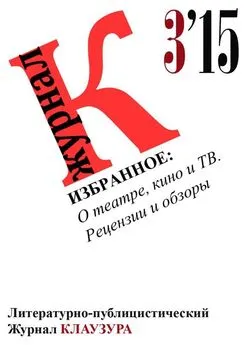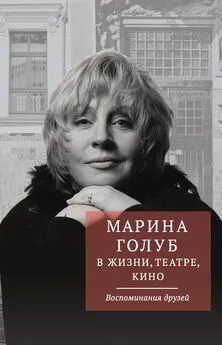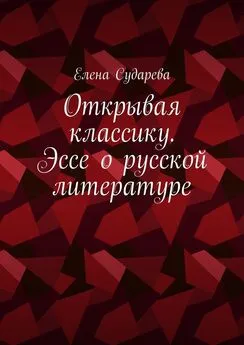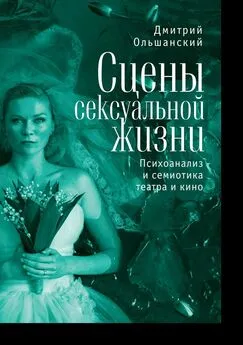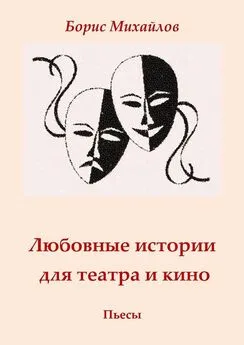Елена Груздева - Болонка, сдохни! Эссе о психоанализе, театре и кино
- Название:Болонка, сдохни! Эссе о психоанализе, театре и кино
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005335654
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Груздева - Болонка, сдохни! Эссе о психоанализе, театре и кино краткое содержание
Болонка, сдохни! Эссе о психоанализе, театре и кино - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
28 28 Архив киноконцерна «Мосфильм». Оп. №10. П. №10. Связка №8.
«Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец.
Если нет — то это не отец, и это значит, что он не придет уже никогда…»
Возможно, ход поиска отцовского отражения в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» покажется неожиданным – слишком очевидным является отражение жены-матери, но я попытаюсь показать в этом шедевре кинематографа именно создание метафоры Отца.
Произведение очень необычное. На первый взгляд, фильм биографический, крайне интимный: мужественная, выстраданная исповедь автора. Однако он довольно сложен для восприятия, а для обывателя и вовсе может оказаться непонятным: повествование прерывисто, изложено сложным ритмическим и смысловым рисунком. Чтобы попытаться действительно «увидеть» фильм, уловить посыл автора, необходим иной художественный взгляд – такой, которым воспринимают художественные полотна или музыку. Я постараюсь использовать психоаналитический аппарат, так как произведение напоминает мне сновидение со всеми присущими ему процессами смещения, сгущения и т. д. Итак…
Загадка
Пролог к фильму подготавливает зрителя, являясь своеобразным ключом к необычному восприятию картины. Мальчик (впоследствии мы узнаем, что это Игнат – сын главного героя) включает телевизор: далее вместе с ним зритель наблюдает сеанс исцеления от заикания. Робкий заикающийся подросток и женщина-врач, которая вводит его в легкое гипнотическое состояние суггестивным методом: «В глаза мне смотреть, вперед… почувствуй, что моя рука тянет тебя – назад… А сейчас я сниму это состояние – и ты сможешь говорить, только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса, своей речи». И первая четкая фраза мальчика, которая воспринимается как чудо: «Я могу говорить».
Что происходит со зрителем? Он загипнотизирован происходящим, став свидетелем исцеления, ему интересно, как это произошло, какие тайные механизмы дают возможность и право обрести речь. Получив язык как дар, как бесценную возможность, автор начинает разговор о самом сокровенном. Впервые он смог «заговорить» о том, о чем раньше молчал. И сразу же включаются две фигуры: женщина и подросток. Автор и зритель идентифицирует себя с подростком. Кто же эта всесильная женщина, владеющая таинственным знанием, которое зрителю неизвестно? Загадка задана, вступление настраивает на дальнейшее внимательное всматривание в то, что будет происходить.
Первые свидания
Первая встреча – с врачом, который забрел к Марии случайно: «Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда…». Мария прохожему явно симпатична, но она показывает, что ждет не его. Человек заблудился: ищет дорогу к дому, к тому же, не может открыть чемодан, поэтому просит какой-нибудь «гвоздик или отвертку». Вряд ли в доме нет ни одного гвоздя, но Мария отказывает. Мужчина ищет ключ к женщине, но она отвергает чужака. После этого он садится рядом с ней на забор и проламывает его, вторгаясь таким образом в ее пространство. «Бегаем, суетимся, все пошлости говорим. Это все оттого, что мы природе, что в нас, не верим», – говорит врач. Что он хочет сказать? Что почувствовал симпатию, но Мария по-прежнему отвергает его. Чему она не верит? Кого ждет? Когда же врач уходит и, не дойдя до ближайшего куста, останавливается, герои смотрят друг на друга уже издалека. Речь о том самом расстоянии, на котором еще невозможно различить, кто же это… Та точка, в которой еще можно усомниться: может быть, все-таки отец? Проносится ветер, колышет траву – говорящая на своем языке природа задерживает то ли момент разлуки, то ли возможность встречи. В жизнь людей вторгается неведомая сила, никому не подвластная стихия.
Этот эпизод говорит о следующем: несмотря на отвержение прохожего (или, быть может, благодаря его появлению и отвержению) мы видим, что встреча с Отцом возможна. Устанавливается определенная дистанция, на которой образы могут сгущаться, меняться, но ощущение ожидания и возможность встречи остается. Звучит стихотворение Арсения Тарковского «Первые свидания», которое еще больше раскрывает чувство невосполнимости нехватки, но «с той стороны зеркального стекла» зритель уже ждет следующей встречи.
Женское
Женщина-мать, женщина-богиня, любящая, но не любимая, верная своим детям и своему чувству, пронесенному через всю жизнь. Мы восхищаемся ею, тоскуем вместе с ней, удивляемся: откуда эта сила, как можно быть слабой, но тем не менее вынести все тяготы, выпавшие на долю одинокой женщины. Не раз мне приходилось слышать упреки в адрес образа матери: она показана черствой, холодной: не приласкает, не поцелует – что она дарит детям, разве это любовь? Однако зачастую пресловутые тисканья и поцелуи как раз замещают истинное чувство, а иногда и скрывают нечто другое. На самом деле, героиня дарит детям самое для нее ценное: позволяет им разделить с собой нехватку, дарит ту тоску по Отцу, которая и есть любовь.
Но есть ли возможность в данной ситуации вырасти мальчику, повзрослеть, стать мужчиной и отцом, если у него нет образца? Как раз это я вижу главной идеей фильма – идентификация главного героя с Отцом: ожидание Отца, появление Отца и формирование Имени Отца. Путь, который выбирает автор, не из простых: он идет через Женское. Ему просто больше не через что идти! Андрей Тарковский не делает секрета из своей биографии, он открывает все сокровенное, все семейные трудности, с которыми пришлось столкнуться на сложном пути становления. Он повторяет историю собственного отца: уход из семьи, вина перед матерью и женой: «Жалко вас обеих», – и в то же время поиск выхода, возможность быть мужем и отцом. Он пытается разобраться с этим, ищет это истинное Имя Отца, собирает его в разных временах своей жизни и судьбах всего человечества.
Быть может, это слишком смело, слишком вызывающе – так вскрывать свое интимное, но Тарковский убежден, что именно в сфере личного опыта лежит то, что может глубоко взволновать зрителя. «Мне надоели экранизации, рассказывающие какие-то сказочки, и по существу моя душа, совесть остается холодной. Весь вопрос заключается здесь в том, как хорошо я это сделал. Я хочу относиться к этому как к поступку. Я задумал кинокартину, в которой бы мог ответить за свои поступки, ответил на вопросы о пристойности и неубедительности…» – уточняет режиссер на заседании того самого худсовета весной 1973-го.
Отцовское
Как же открывают женские образы (матери героя Марии Николаевны и бывшей жены Натальи) путь к присвоению отцовской позиции, как дают почувствовать и указать Место Отца? Отчасти я уже упомянула основные моменты, открывающие нехватку. Причем Тарковский не идеализирует женские образы. Они у него довольно конфликтные, но правдивые, именно поэтому автор/герой открывает в себе ту же нехватку, которая по сути есть Женское, но ему не хватает образца и силы для мужской идентификации. Тогда привлекаются другие образы: влюбленный контуженный военрук, совершающий подвиг; документальные кадры как обращение к всемирной истории; библейские мотивы; фрагменты произведений искусства… автор ищет и находит образцы страдания и мужества, преодоления и смирения – Закона, который просто Есть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: