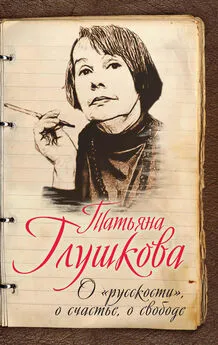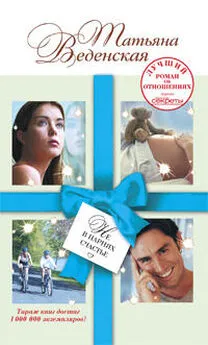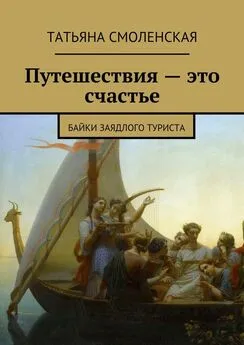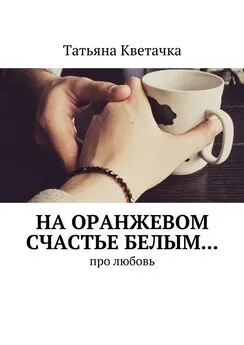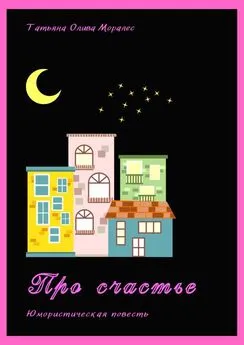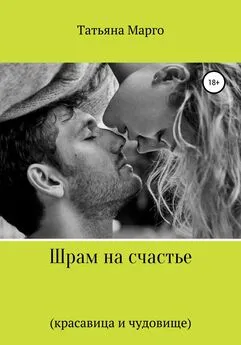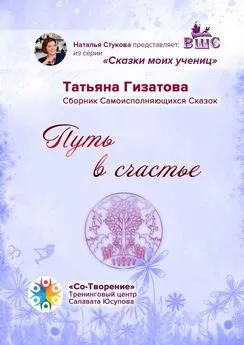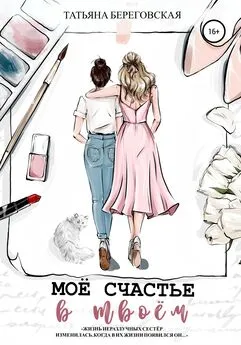Татьяна Глушкова - О «русскости», о счастье, о свободе
- Название:О «русскости», о счастье, о свободе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906842-27-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Глушкова - О «русскости», о счастье, о свободе краткое содержание
В этой книге представлены насыщенные содержанием, написанные прекрасным поэтическим языком статьи Татьяны Глушковой – проницательного, глубоко образованного критика, яростного и пристального читателя поэзии, пристрастного и неукротимого публициста.
О «русскости», о счастье, о свободе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тут можно говорить о безумии самого Сальери, о порушенной психике этого вечного насильника над натурой, действительностью, истиной… Однако если это и безумье, то – «умное», логичное в своем развитии: оно развивалось с логической «правильностью», ступень за ступенью, и все его ступени пронизаны единым логическим принципом. Это, так сказать, предсказуемое безумие – предсказуемое конкретно во всех его стадиях.
Мысль «остановить» небо – для Сальери не внезапное озарение (пусть и «безумное»): это для него – подготовленная, правильно выросшая, а по существу, коренная, органичная мысль. Ведь он никогда не верил в «небо», как не верил в неуправляемость чего-либо. Он верил только в строгий логический инструмент, в наглядность, очевидную ясность причинно-следственных связей, и истинным «небом», верховной субстанцией, которой подвластно все, был для него математически-без- ошибочный разум. Так что безумная (на наш взгляд) решимость «остановить» ушедшее от «правоты» небо – это, в системе Сальери, как раз миг полноты разума. «Для меня Так это ясно, как простая гамма», – говорит Сальери о «неправоте», а значит, с его точки зрения, уязвимости «неба» и надеется уязвить смертью «бессмертного гения»…
Речь тут, естественно, не о пушкинском, Моцартовом, аполлоническом разуме (ясном зрении, ясновидении), не о русском «уме» или «здравом смысле» – источнике мудрости и простоты (все русские слова все-таки слишком теплы для безумно-трезвой, цинической головы Сальери!): уместней всего тут, пожалуй, – ледяное, бесстрастное «ratio» с «сухой беглостью» его «трудовой» логики. Этот-то, рационалистский, разум, логическое саморазвитие его, механическое развертывание «лестницы» его классических задач, ключ к которым – в формальной логике, а исток – в умозрительной, волюнтаристской начальной посылке, служит залогом безотказного «философского» обоснования убийства. Всякого организованного убийства. И убийства Моцарта – в частности.
«…Поверил Я алгеброй гармонию», – говорит Сальери. Но нет, не «поверил», а лишь поверял. Иначе явление Моцарта не знаменовало бы для него опасности, не воспринималось бы как явление врага, «злейшего врага». Иначе не было бы этого ужаса: «…мы все погибли»! Ведь «поверенное», разгаданное, разъятое на образующие части – не страшно: из тайны оно превращается в науку, доступную для овладения ею! Сальери же – страшно. Его настигает «злейшая обида», «злейший враг» (великое и творец его, «новый Гайден») – угроза, опасность, вселяющая ужас… И Сальери лихорадит восторг дерзновенной победы над ужасом – физической победы над ним. Победы над Гармонией, этой – для Сальери – силой грозной, «бездной мрачной»!
Его отношения с Гармонией таковы ж, как и его отношения с Природой. Это – борьба (а не сыновняя послушность). Это – антагонизм, противостояние (а не жажда слияния). Это – желание упразднить ее, вычеркнуть, выгнать из мира: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше», – понукает он вестника гармонии с его «песнями райскими».
Сальери – не «сын гармонии», не нота из безграничной ее партитуры, но вечный воитель с нею, неутомимый ее «конкурент» и упразднитель, хотя вечно ломается его чернильное копье, вечно бледнеет едкая его ночная лампада, угль «творческой ночи» – «пред ясным восходом зари»!
Одоление для Сальери – это всегда именно физическое одоление, всяческая работа «перстами»… И потому, чтобы одолеть (упразднить) ужас, открыты перед Сальери именно физические возможности. Их, вообще говоря, две: убить себя – либо убить Моцарта, этого «нового Гайдена», воплощенную причину «злейшей обиды» или Сальериева ужаса, грянувшего «с надменной высоты»…
«Дар Изоры» предназначался, собственно, для самого Сальери. Для минуты, когда жизнь покажется ему «несносной раной». Минуты вполне возможной, ибо ведь он и вообще «мало жизнь любит». Однако тщетно применять к самому рационалисту его логику – ту, которую сам он прилагает к внешнему миру. И если его «неумолимая» логика способна о что-нибудь разом обломаться, так это прежде всего о него самого – о глубокий эгоизм рационалистической натуры.
«Что умирать?» – рационально вопрошает Сальери, когда подразумевается собственная его смерть. Этот вопрос возникает в его мозгу вскоре после диаметрально противоположного – сопряженного с Моцартом: «Что пользы, если Моцарт будет жив…» Вскоре после того, как Сальери причислил себя к «чадам праха». И возникает во имя той спекулятивной «логики», которая должна обречь Моцарта на смерть.
Пушкин не комментирует противоречий мысли Сальери, логики Сальери, а только обозначает их – устами самого Сальери. Мысль о самоубийстве оборачивается мыслью об убийстве; рассуждение о бессмысленности жизни – рассуждением о неразумности умирать, – и мы сами должны оценить эту двойную логику, как и двойную этику рационалиста. Тут не рефлексия, а именно двойная логика. При однородной посылке она видоизменяется в своих выводах в зависимости не от состояний субъекта, но от объекта. И служит как раз двойной этике.
Милосердный «дар любви», «дар Изоры», переходит в «чашу дружбы», оборачиваясь «даром» вражды, ненависти.
Музыка Моцарта не пробуждает в Сальери «чувств добрых». А сам Моцарт – он только подталкивает руку Сальери, приближает свою смерть: слишком уж он не таит своей, Моцартовой, творческой природы, столь не сродной с угрюмой, сухой душою «друга»! Ну зачем он приводит к Сальери этого смешного «скрыпача» из трактира?! Зачем хохочет, услыхав эту смешную «скрыпку»?! Зачем с такой легкостью, с детским таким удовольствием (озорством!) позволяет ей, смешной «скрыпке», перевирать, коверкать «Из Моцарта… что-нибудь!»? Зачем ему не страшно это «бесчестье», эта пародия на Моцарта? Зачем он забыл даже про свежее свое сочинение, с каким шел к Сальери, сочинение, о котором «друг Сальери» воскликнет: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!», – забыл ради «скрыпача слепого», ради нелепой потехи, – уж не хочет ли он тем показать Сальери, что эти «глубина», «смелость», «стройность» для него, Моцарта, сущий пустяк, вовсе не требовавший «усердия» и не стоящий серьезности?.. Всем своим поведением (да хоть бы и этим: «…божество мое проголодалось») Моцарт невольно, не думая о том, мучительно оскорбляет Сальери. А с ним вместе и «искусство», которое Сальери не отделяет от себя и привык даже подменять собой!
Конечно, Моцарта можно одернуть: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя»… Можно прогнать слепого «скрыпача»: «Пошел, старик»… Можно оборвать «ребяческий» смех Моцарта, когда он первый смеется корявой пародии на своего «Дон Жуана», – оборвать гневными речами о «маляре негодном», что пачкает – «мне [2] Как характерно это маленькое «мне»! Полагая искусство делом (трудом) надменной касты, Сальери уверен и в элитарной предназначенности художественных творений, словно бы заведомо адресованных некоему узкому кругу.
пачкает Мадонну Рафаэля»… Но ведь все это (подобное) повторится снова и снова! Как повторится и «глубина», «смелость», «стройность» Моцартовых созданий.
Интервал:
Закладка: