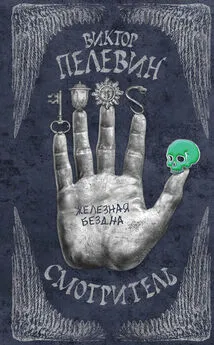Виктор Сиротин - Бездна
- Название:Бездна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449870940
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание
Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что там Шиллер! Разве русская икона – великая в гимне божественному в человеке – непостижимой красочностью своей, переходящей в нетленную «радость цвета», не несёт в себе признаки бытия в их чарующей ипостаси – той, в которой духовная гармония доминирует над несовершенствами человека?
Разве она соборностью сознания иконописца, чистотой темы и красочностью её решения превосходя самые выдающиеся индивидуальные достижения живописцев, их глубокие ( и тоже духовные ) изыскания и откровения, не содержит в себе начал, вразумляющих душу и сознание человека?! Разве красота такого рода не есть зеркало души «человека радостного», между тем способного и на подвиг?! Разве не явили его иноки-воины, вдохновлённые на знаменитую битву св. Сергием Радонежским?! Но если так, то не лучше ли было бы возвратиться к тому, что присуще народу по культуре и происхождению, нежели в плачах и скорбях развивать то, что ему исторически не свойственно?!
II
Увы, правительство Александра I не поняло звёздного часа русского бытия , а его наследник с оловянными очами не поддавался ни вразумлению, ни настояниям времени. Плац-парадный «уровень, начертанный николаевским скипетром» (А. Герцен), обусловил острокритичную «линию» Чаадаева, за которой стелилась широкая полоса уныния – везде , во всём и среди всех!
Некрасов, разглядев «несжатую полосу» на крестьянском поле и обратив свою «находку» в громкую песнь о тяжёлой доле народной, не удосужился увидеть сжатые полосы крестьян. Бессильные пахари Ивана Никитина – современника Некрасова, и вовсе не доживали до жатвы… Их соха – «горькой бедности помощница» – застревала в дикой полыни – «травке дикой», символизирующей горечь жизни, неразлучной со смертью. Повсюду немощному жильцу – Никитину – виделась «Бедность голодная, грязью покрытая/Бедность несмелая, бедность забытая…».
Заживо погребённые персонажи отдающей Богу душу поэзии мрачно тянули свою «лямку» вместе со своими авторами. Чахлые духом и одолеваемые телесной хворью, они, подобные бурлакам Репина, из последних сил волокли свои «полосы» до погоста с тем, чтобы справить там тризну и по ушедшей Руси, и по себе самим…
В своём стихотворении «Родина» (1846) Некрасов, «с враждой и злостью новой» вспоминая свою безрадостную юность, пишет о том, что всё «Проклятьем на меня легло неотразимым,/Всему начало здесь , в краю моём родимом!..».
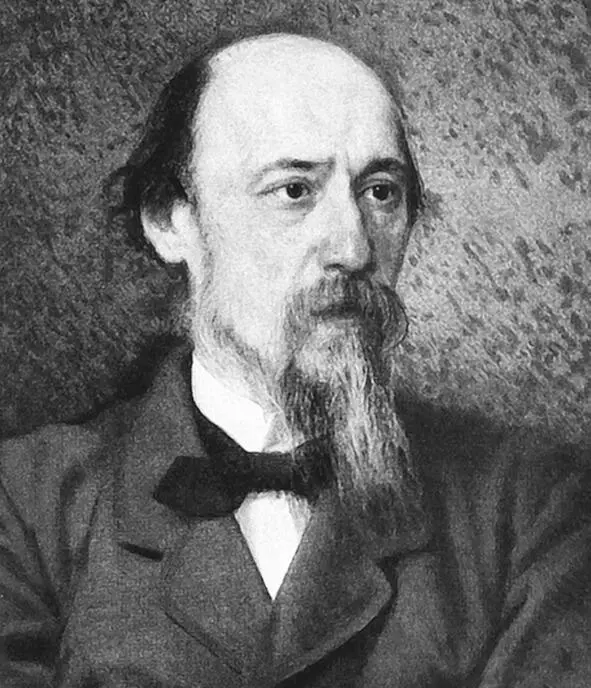
Николай Некрасов
«С отвращением кругом кидая взор, с отрадой» видел Некрасов, как «срублен тёмный бор… и нива выжжена… и на бок валится пустой и мрачный дом…» его детства… его Родины.
Плач Некрасова о «несжатой полосе» и по всему вообще подхватили другие литераторы. Переведя «полосу» в прозу, они к концу века обратили её в реквием по несостоявшейся русской жизни . Ту же «песнь», придав ей монументальность и возведя в масштаб государственности, продолжил М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сформировавшись при режиме Николая-«Палкина», писатель обрёл специфическое видение России, впоследствии ничуть не поколебленное более разумной политикой следующих двух императоров. Отсюда «николаевская» – во фрунт – прямолинейность и несгибаемость его сатир, кои находили-таки себе почву в ухабах «расейской» неупорядоченности. В этом смысле тоже «почвенник», он по-своему обессмертил отечественные реалии.
Иное отношение к России было у Чехова.
Сложившийся в другой политической реальности, он умело прятал эпические картины Щедрина в «футляр» конкретной обывательской жизни, часто ядовито, но всегда беззлобно указывая на её изъяны, нашедшей живой отклик в «щедринском эпосе».
Сатиры Чехова не только жалили, но и лечили небезнадёжных , тем самым выгодно отличаясь от произведений авторов, заражённых неприятием бытия как такового. Последнее с редким постоянством заявляло о себе в произведениях Максима Горького и уныло-тяжёлой, без щели просвета, прозе Леонида Андреева.
В рассказе «Супруги Орловы» (1897) Горький делится с читателем отнюдь не безвредной «удалью» главного героя. Она, своей непристойностью завораживая «страстных любителей всевозможных происшествий» в самом повествовании, в некоторых аспектах потрафляла (это несомненно) тайным стремлениям читателей из потенциальных «товарищей»…
О чём же грезил один из «орлов» гнезда Горького?
Прожив жизнь тупо и без пользы, он мечтает «отличиться на чём-нибудь», хотя бы даже «раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей!» или сотворить «что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками – и вдребезги!» Заканчивается рассказ описанием каба- ка, где автор участливо общается со своим детищем: «Тяжелая дверь кабака, в котором я сидел с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных…». В рассказах Л. Андреева «жизнь» горше даже и горьковской реальности. Содрогаясь от неё, критик Ю. Айхенвальд пишет: «Внешний безобразный ужас застилает собою у Андреева внутреннюю жуть».
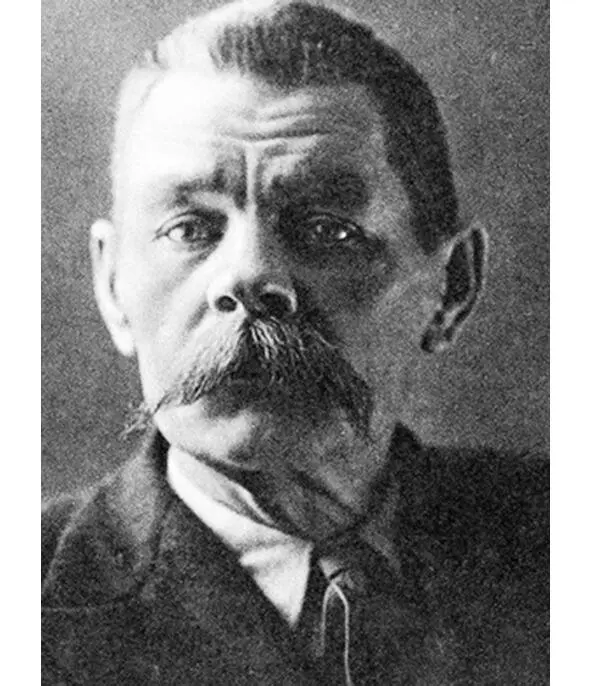
Максим Горький
В своих текстах писатель и в самом деле «разевает» перед читателем художническую «пасть», которая по-горьковски пережёвывала и по-андреевски проглатывала души «попавшихся».
Взять хотя бы унылый, тяжёлый, без щели просвета рассказ Андреева «В подвале» (1901), течение которого он предваряет беспощадным началом:
« Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние деньги. У него было большое, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица »…
После такого вступления и в самом деле хочется взять жбан водки, опорожнить его «до части», привязать недопитое к вые и… – пропади оно всё пропадом! – броситься головой в омут. Но погодим пока. [ 6]
Что же дальше-то? А дальше Андреев пишет: « Пришла ночь. Пришла она чёрная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далёким снежным полям… Слабым огнём светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих потушила она слабые тлеющие искры ». И здесь Андреев, зло констатируя чьи-то невидимые смерти, опять подсказывает нам «единственный выход» из такой жизни…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: