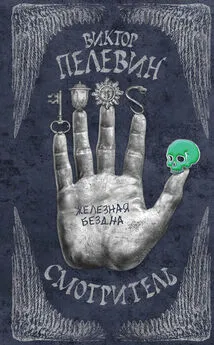Виктор Сиротин - Бездна
- Название:Бездна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449870940
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание
Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И те и другие, потеряв родство и память о своей малой родине, не способны были распознать в ней Страну. Восприятие «приблудивших» к дворовым по факту было сродни опрощённым до безликости и потерявшим народную характерность маргиналам, коим до культуры не было дела. Интерес к ней у одной «части» был умственным, а у другой – сродни балаганному, ярмарочному – «весёлому». И то, что интеллигенция была куда более образованной, нежели её «сосед по классу», ничего особенно не меняет. Потому что и те и другие, если мерить не эрудицией, а пониманием российских реалий, были одинаково далеки от народа.
В результате самоослепления тогдашних «образованцев» истинно талантливую и мыслящую Россию на рубеже ХХ в. заглушил гогот толпы, презиравшей «высокие материи», не умевшей и не желавшей видеть ничего хорошего в собственной жизни. Остатки дышащего на ладан дворянства, как и образованные слои «продвинутого общества», по-прежнему оставались страшно далеки от народа… И ничего не менялось… Позднее, уже после революции, Сергей Есенин с горечью писал в «Ключах Марии» (1918) о трагедии преданного всеми «мужика»: «Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью прочувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на св. духа».
Однако выгонять было уже поздно… Слишком долго сознание «плебса» процеживалось через сито безысходности, общих тягот и личных разочарований … Отсюда сентенции Василия Розанова, печально глядевшего на «российское человечество»: «Расцвели розы. И увяли розы. Что же ты плачешь, смертный человек? Скажи „здравствуй“ одним и „прощай“ другим» («Мимолётное». 1915). Но не расцвет был в чести и во внимании «плачущих» писателей, а увядание и запущенность… Не восторг и вдохновение, а глубокий упадок духа!
«… Все русские (везде выделено В. Розановым. – В. С. ) прошли через Гоголя – это надо помнить. Это самое главное в деле, – там же писал Розанов (31. III. 1915.). – Не кто-нибудь , не некоторые , но все мы, каждый из нас – Вася («Вася» уж точно! – В. С. ), Митя, Катя… Толпа. Народ. Великое « Всё». Каждый отсмеялся свой час …«от души посмеялся», до животика, над этим «своим отечеством», над «Русью» -то, ха-ха-ха!! – «Ну и Русь! Ну и люди! Не люди, а свиные рыла. Божьи создания??? – Ха! ха! ха! Го! го! го!..».
2. V. В 1915 г. Розанов ещё более категоричен: «…Русская литература есть несчастие русского народа. Неужели можно «воспитывать детей» на проклинании и насмешке над своею родною землёю и над своим родным народом?». А 10.V. того же года записывает: «Гоголь в русской литературе» – это целая реформация… Не меньше».
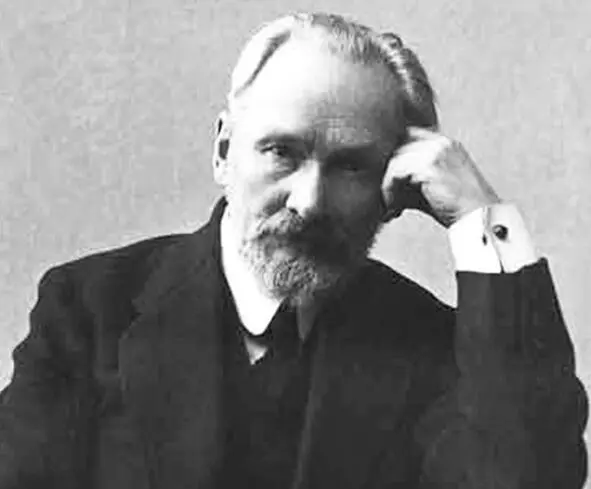
Василий Розанов
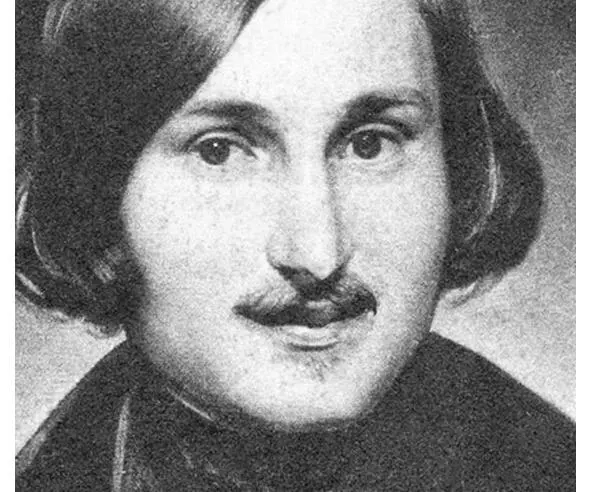
Николай Гоголь
Как видим, Гоголю особенно досталось от Розанова. Но первым, кто критически отнёсся к творчеству Гоголя, был – с лёгкой руки Николая I – «сумасшедший» Пётр Чаадаев. В 1836 г. (т. е. задолго до выхода в свет знаменитых «Мёртвых душ», 1842—1852) в «Апологии сумасшедшего» анализируя комедию Гоголя «Ревизор», Чаадаев жёстко указывает на потенциально вредный сарказм писателя: «…никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось полного успеха». Это глубоко осознал и сам Гоголь – отсюда глубочайший внутренний разлад великого писателя…
– V. 1915 г. Розанов дополняет свою мысль: «Дело в том, что не Гог <���оль> один, но вся русская литература прошла мимо Сергия Радонежского. Сперва, по-видимому, нечаянно (прошла мимо), а потом уже и нарочно, в гордости своей, в самонадеянности своей. А он (Сергий Радонежский) – ЕСТЬ» (выделено Розановым). Замечу, задолго до него А. Дружинин писал в статье о Пушкине (1855) о том же: «… наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением ».
К счастью, Андреев в своём нездоровом любовании чёрными сторонами жизни не стал маяком русской литературы. Но его большой талант, в котором «внешний безобразный ужас застилает собою… внутреннюю жуть» (Ю. И. Айхенвальд), не мог не воздействовать на настроения, мировосприятие и стиль писателей начала века. А живучей «внутренняя жуть» была потому, что как-то отражала разлад русского бытия, находившегося в шаге от революции. И разлад этот преумножался усилиями самоизбранной, завсегда неугомонной и истеричной в своей «избранности», либерально, без берегов, настроен- ной интеллигенцией, к концу XIX века существенно разбавленной не очень уверенно говорившими на русском языке литераторами.
Иван Шмелёв понимал причины настроений Розанова. Потому, наверное, и написал «Богомолье», а затем – «Лето Господне». Но, во-первых, эти благостные произведения были написаны после всего (соответственно в 1931 и 1934—1946 гг., к тому же в эмиграции). Во-вторых, они были продиктованы, скорее, чувством вины (общей – «от всех» русских писателей), а потому по своим художественным достоинствам намного уступают его же великому реквиему по гибнущей России «Солнце мёртвых» (1923). Разница в достоинствах обусловлена тем, что трагическая тема решалась всем существом автора , а не только «религиозной направленностью», сусально-покаянным умом, «чувством вины» и пр. Ибо истинное творчество не реализует себя по заказу, даже если «заказ» этот исходит от самого автора и продиктован самыми благочестивыми побуждениями. В данном случае именно ощущение вины – чувство греха (совершённого или несовершённого, внушённого или надуманного), отравив душу и сознание Гоголя, привело его в ужас. Именно нравственная подавленность от того, что не на том бытии сконцентрировал он свой гений, не позволила Гоголю создать шедевр, равный первому тому. Поэтому, выморочив «из себя» продолжение «Мёртвых душ», продиктованное нарочитостью (т. е. написав не по вдохновению, а по прямому <���пастырcкому> наущению), и увидев разницу, унижающую его гений, Гоголь сжёг свою рукопись. Не мог не сжечь! Поскольку из того, что было у него под рукой, можно создать лишь образ «положительного негодяя», что шло вразрез с его намерением обустроить Отечество. Именно это осознал Гоголь.
Кто знает, может, сожжение тома невольно подсказал ему другой гений – Михаил Лермонтов. Проникновенный поэт, не имея иллюзий относительно своих современников, провидел и пустоту будущих «потерянных поколений». Может, Лермонтов и Гоголь предвидели тот «Апокалипсис», суть которого позднее раскрыл Достоевский, а трагическое развитие его дали выдающиеся писатели и мыслители России рубежа и начала ХХ века. Придётся признать, что драма Гоголя была не только в том, что он осознал, какую Россию развернул в своих «Мёртвых душах», а в том, что другой России он не видел! И не потому, что не способен был увидеть, а потому что искал и не находил предпосылок для обновления России, отчего не мог найти и вдохновенных образов её … Это и было истинной трагедией Гоголя-человека, мыслителя и писателя. И не его одного, но и всего русского народа, что подтвердилось через несколько поколений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: