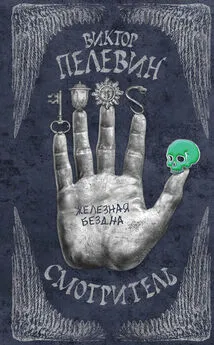Виктор Сиротин - Бездна
- Название:Бездна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449870940
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сиротин - Бездна краткое содержание
Бездна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А кому же подсказывать, как не ему, ведь он несколько раз пытался покончить с собой?! Исповедуя безысходный мрак, писатель настойчиво внушает читателю, что в этой жизни нет ни радости, ни надежды! Потому и своему герою (Хижнякову), «приговорённому» автором, он не оставляет никаких шансов на выживание. Заканчивает свой рассказ Андреев так же безнадёжно, как и начал: « А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала – спокойно, терпеливо, настойчиво »!
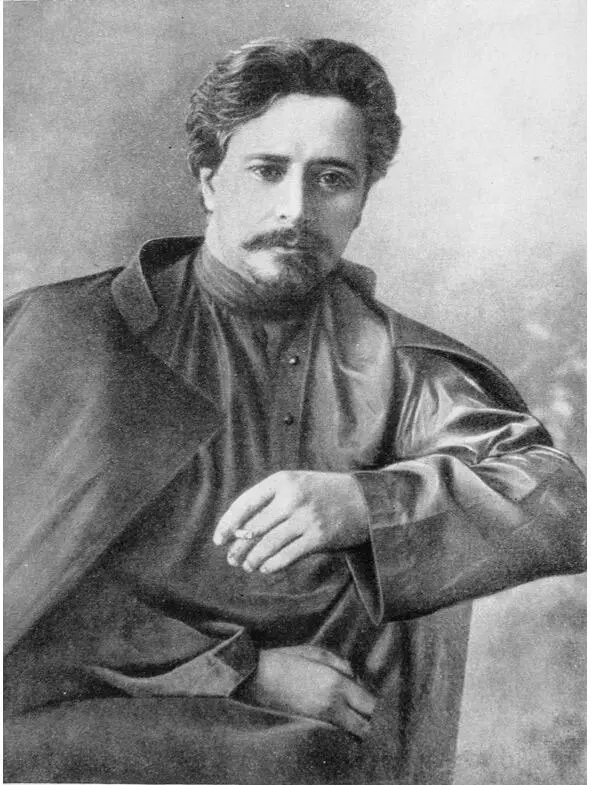
Леонид Андреев
На фоне такой прозы самые строгие проекты и предложения Градоправителя из «Истории одного города» (1870) С. Щедрина кажутся олицетворением невинной шалости, юмора и строевого «плац» -оптимизма.
И в самом деле, «вглядываясь» в будущее России, Угрюм-Бурчеев предлагает планы гуманного умягчения его. В соответствии со своими грандиозными планами он выстраивает для народа некий Коммунистический Город, где есть даже «манеж для коленопреклонений , где наскоро прочитывают молитву». И угрюмый прозорливец наш таки был пророком в своём отечестве! Ибо прошло время, и «манежем» стали тысячи площадей, на которых счастливый народ маршировал, пел песни, читал гимны и прочее. А местами для преклонений стали миллионы «красных уголков». Но и это не всё.
По плану нашего героя после оздоровительной маршировки обыватели «направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой (что, плохо разве? – и тоже ведь было) ; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску хлеба, посыпанного солью (это уже не так хорошо, но не хуже пайка будущих ГУЛАГов).
По принятии пищи выстраиваются в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются, сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы » (вспомним кинематограф 1930-х гг. – тут Щедрин прям как в воду глядел!).
О «жизненности» проектов Градоправителя говорит то, что большинство их было взято на вооружение «красными камандирами», выполнено и даже превзойдено. Словом, то, что самому Щедрину казалось сатирой и утопией, позднее было блестяще выполнено под блеск наганов «товарищей».
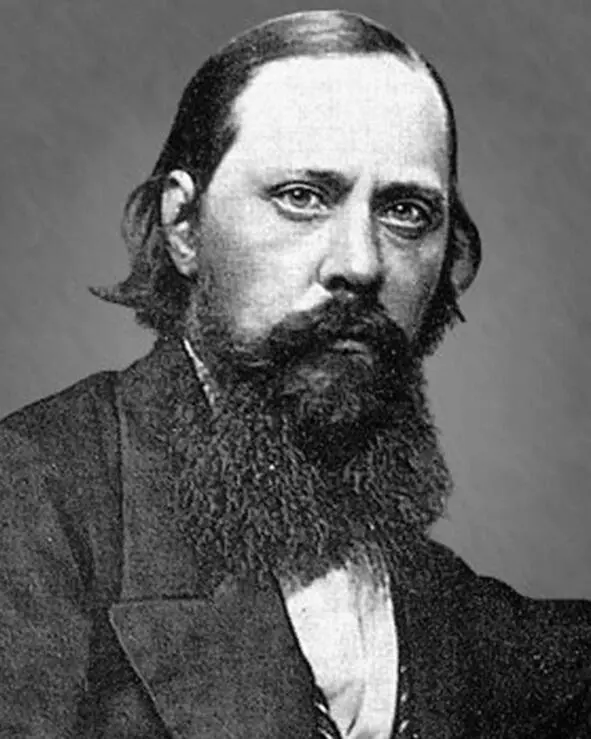
Михаил Салтыков-Щедрин
Именно под их «чутким руководством» трудовые коллективы и ходили на работу в ногу, и нагибались единовременно, и косили в одном ритме. Если б писателю-сатирику хватило идеологической фантазии, то он к «стуку заступа» непременно добавил бы песни счастливых трудящихся. Но что уж теперь сетовать…
Зато другие инициативы Угрюм-Бурчеева «товарищи» обошли и по смыслу, и по содержанию, а во многом и перевыполнили даже, для чего сравним то, что знаем, с тем, что имеем в пунктах «Устава о свойственном Градоправителю добросердечии»: « Казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таких расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба (пункт 8-й III- го Устава)».
Правда, в житейском исполнении один из пунктов «Устава» (13-й): « В пище и питии никому препятствий не полагать », – содержит небольшие перекосы (ибо с пищей в России были-таки трудности), зато с питиём никаких перекосов (прошу прощения за каламбур) не было и нет. Ибо питиё воистину стало любимой «пищей» пролетариата, да, впрочем, не только его. Далее читаем (пункт 14-й):
« Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития ». Полагаю, долгое время так оно примерно и было, хотя, может, не всегда и не везде…
Но самое ценное предложение Градоправителя содержится в последнем, 15 пункте. Сила его в том, что оно завсегда способно развязать руки властям, в то же время способствуя «полёту фантазии» и буйству «мыслей» иных его замов.
Содержание этого пункта, вне сомнения, заслуживает всяческого поощрения, а потому должно быть возведено в догмат общественно-обывательского жития. Более того, лаконичный по неясному смыслу и безупречный по неуловимой форме пункт этот должен быть «отлит (цитирую одиозного политика нынешней уже России) в мраморе» во всяком государстве, не знающем куда идти… Вот этот, краткий, как всё гениальное, пункт: «Во всём остальном поступать по произволению»!
Итак, в силу умения и меры уныния, глубины восприятия и личных пристрастий писатели заката XIX и рубежа веков озабочены были главным образом трудностями и мерзостями повседневной жизни. Причём критике подвергались все звенья российской власти, обвинялись практически все сословия , система общественного и государственного устройства и сам император . Таким образом, Угрюм-Бурчеевы, Иудушки Головлёвы и Кабанихи, кочуя из жизни в литературу и наоборот, становились подлинными героями произведений, опосредованно формируя по себероссийское бытие .
Замечу здесь, что в «чаадаевских» настроениях и смехе сквозь слёзы писателей пушкинской поры слышалась горечь от наблюдаемой действительности. Но замерло эхо последних из них, и преемники Гоголя, прослезившись от смеха, всерьёз задумались и сделали «критический реализм» жупелом своего творчества. Всё больше исходя страданиями от «такой жизни», они не нашли ничего лучшего, как прийти к отрицанию уклада отечественного бытия, как и самой «русской жизни», лишь частью которой были пороки российского общества. Не все, конечно. А. Эртель, наблюдая исподволь усиливавшееся безверие, признаётся: «Я долго писал о нём (народе), обливаясь слезами». Ему больно было видеть, как талант и великие потенции народа из поколения в поколение уходят водой в песок…
Но собратьям Эртеля по перу недосуг было разбираться в «низовой культуре» и принимать близко к сердцу интересы простого люда. Убеждённые в своём призвании научать и пестовать «низы» общества, они – при недостаточном почтении к себе – тыкали в рыло всякому «хаму» своим «фи». Сам Эртель не был склонен к анализу перипетий и тонкостей отечественного бытия, а народу в ещё меньшей степени были интересны «сложности» навязываемых ему «сверху» литературных образов. Не научен он был этому, да и не до того ему было… Как это ни покажется странным, но понимание народа интеллигенцией не особенно отличалось от «видов на народ» дворовых , коими были сотни тысяч приблудивших к городу селян, давно переставших быть крестьянами и не ставших городскими. У обоих «классов» было схожее презрение к «своему народу».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: