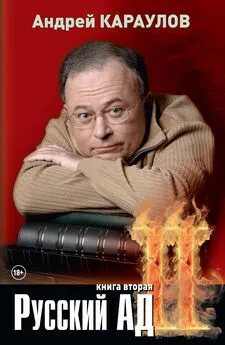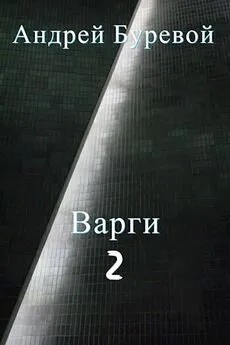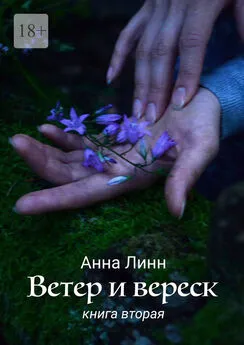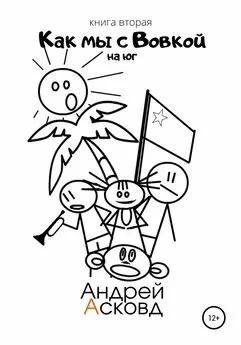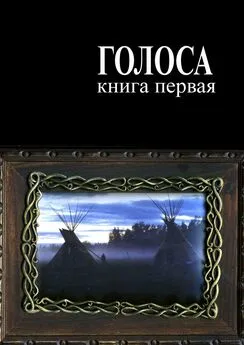Андрей Ветер - Голоса. Книга вторая. История движения индеанистов
- Название:Голоса. Книга вторая. История движения индеанистов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005030382
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ветер - Голоса. Книга вторая. История движения индеанистов краткое содержание
Голоса. Книга вторая. История движения индеанистов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ну, а визуально я зависал, конечно, на бесценных для меня (в то время) иллюстрациях-рисунках индейских вещей Ремингтона к «Гайавате». Сколько времени я провёл, детально рассматривая каждую деталюшечку, сколько их перерисовывал и систематизировал (все виды томагавков отдельно, все виды ножей отдельно и т.д.), и пытался по этим рисункам делать свои первые вещи – это вы представляете и сами… Сами этим занимались.
Наделал я, конечно, каких-то совершенно безумных, с сегодняшней точки зрения, «индейских вещей» и развесил у себя в комнатке на стене. А жил я на первом этаже, и иногда слышал, как какие-нибудь прохожие переговаривались под окном: глянь-ка, Зин, индейцы здесь живут! Очень я этим гордился. Ну а вещи были: лук из ствола новогодней ёлки – с тетивой из резинки от трусов; стрелы с наконечниками из жести консервной банки; томагавк – простой туристический топорик; бахрома, конечно, от штор; гусиные перья в уборе, ну и так далее… Но разве это важно, когда уверен, что всё так и должно быть?.. Потом, когда пришла пора менять тетиву на нормальную, из капронового шнура, был в недоумении: ведь она же не растягивается, как резинка – как же стрелять-то?..
Возвращаясь ненадолго к книгам, иногда в отделах иностранной литературы встречались таковые и про индейцев, но они все были на варварских языках, и покупались только из-за иллюстраций.
Помню, уже намного позже там появилась книга Кэтлина на немецком! Такая толстая, с серой глянцевой суперобложкой, с завлекательным индейцем на ней. Дорогая, по тем временам. Долго я решался, ходил, ходил, но купил. Пытался со словарём переводить с немецкого, и окончательно убедился, что нам от немцев всегда и везде одни лишь неприятности. Это ж надо: додуматься писать все существительные с большой буквы! И не поймёшь, то ли это имя вождя, то ли название племени, то ли просто ворон… Но всё равно, тщательно выписывал оттуда все слова на разных индейских языках, и до сих пор у меня где-то валяется общая тетрадь с солидными оглавлениями: «Язык Манданов», «Язык Хидатса»…
Вот на что я вообще тратил своё детство?.. Бежал бы во двор к пацанам.
Был в моей жизни и такой любопытный отрезок: когда мне было лет 10—12, мы с приятелем со двора смотрели двухсерийный фильм «Виннету – сын Инчу-Чуна» 10 дней подряд! Или даже больше. Это было просто как ритуал.
Представьте, лето, и солнечные утро, и ещё одно такое утро, и ещё, и ещё… Каждое утро приятель опять и опять заходит за мной, и каждый раз спрашивает только одно: «Идём?» – «Идём!» И мы бежим в кинотеатр по солнечным, гулким пустынным утренним улицам – все же разъехались на лето – покупаем билеты (20 копеек за 2 серии, на утренний сеанс) и… снова попадаем в знакомый волшебный индейский мир!
Мы же знали уже обе серии буквально наизусть, до последней царапинки на киноплёнке, до последнего щелчка в динамиках! И всё равно, каждый раз смотрели, как в первый раз! А музыка!! Ну вот та самая, раздольная мелодия из Виннету, на губной гармошке, в начале, на титрах, от которой просто разворачивается душа! И уже доооолго потом не сворачивается. И та завораживающая музыка с дрожащей флейтой, где Шаттерхенд и Инчу-чун борются в воде… И сам фильм широкоформатный и потрясающе цветной. И такие насыщенные цвета и звуковые эффекты!
И эти две кино-истории повторялись снова и снова, снова и снова – каждый день… Я-то ладно, со мной всё было понятно, но и товарищу моему не надоедало – вот что удивительно! Теперь это одно из самых волшебных воспоминаний моей жизни.
Жаль, что невозможно передать вот этот запах кресел огромного, почти пустого утреннего кинозала середины 70-х годов, с висящими пылинками в луче проектора, мощный звук из стерео-динамиков, дающий эффект полного присутствия… И такая волнующая, невыразимо притягательная настоящая жизнь на экране!
После сеансов мы выходили, и казалось, что мы очутились на сером тюремном дворе…
Удивительная судьба у этого моего приятеля. Он вырос и стал… попом. Это до того странно… Как непостижимы наши жизненные пути… Представьте, что ваш обычный дворовый приятель, с которым вы всё детство бегали, хулиганили, ругались, дрались; самый обычный мальчишка, который сквернословил, задирал девчонкам платья, ходил каждый день с вами на «Виннету», вдруг стал… батюшкой, которому бабки целуют ручку. То есть, святым человеком? Мало того, что это дико неожиданно, так ещё и несколько… обидно. Мне вот бабки при встрече ручку не целуют. Значит, он стал в чём-то лучше, выше меня?.. В чём?.. В том, что читает и почитает еврейские сказки и мифологию?.. Только-то?..
Примерно в то же время я повадился посещать киносеансы про индейцев с фотоаппаратом. Нелёгкое это дело, скажу я вам! Мало того, что весь зал оборачивается к тебе на спуск затвора в тишине (а я-то при этом – сверхзастенчивый!), так ещё и нужный кадр очень сложно уловить! Проворонил момент – иди на следующий сеанс… Приходилось примерно запоминать, где Зоркий Сокол вот-вот сейчас повернётся и подставит мне свой орлиный профиль. А дома проявишь, напечатаешь – а всё смазано или не резко: кадры-то в кино движутся… Да и тени какие-то вместо индейцев – освещение-то слабое на экране…
Так я и жил, потихоньку взрослея. Когда родители спрашивали, кем хочу стать, отвечал: буду жить в лесу. Как в лесу, почему в лесу? Лесником, что ли будешь? Нет, просто буду жить в лесу. Не мог даже для себя тогда сформулировать конкретнее.
Началась эта утопическая тяга к дикой лесной жизни ещё с раннего детства, когда прочитал «Маугли», и помню, стал в пионерском лагере тренироваться ходить босиком по сосновому лесу – а больно!! Шишки! И сучки. Да и зимой голышом в наших сибирских лесах не побегаешь с медведями Балу… Да и летом-то не особенно – с комарами. Причём не задумывался, что я-то потом вырасту, и тогда будет уже здоровый голый волосатый мужик бегать по пригородным лесам, шокируя бедных грибников… Так и не стал я Маугли-2… ну и ладно. Но желание было горячим.
А когда пришла уже крайняя пора определиться с родом занятий, методом отсечения всех технических учебных заведений, поступил в училище на метеоролога. Это знаете, такие классические полярники или таёжники, каких обычно показывают в кино: наблюдают за погодой, а потом сидят на метеостанции за рацией и передают результаты наблюдений Морзянкой: пи-пи-пи-пи… Сама профессия мне была глубоко до лампочки, всякие там градусники, флюгера, метеобудки… Но вот то, что после выпуска надо будет жить в таёжной глуши – это да!
В училище три года у меня была кличка «Чингачгук», и это вполне понятно; но иногда меня ещё называли «сектантом». Последнее – это от моего неизменного нежелания участвовать во всех обычных развлечениях парней тех лет, начала 80-х годов. А так же из-за моего перманентно-мрачного вида. Я жил в своём придуманном мире, и мне было с ними не интересно. Этакий вечный одиночка в уголке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
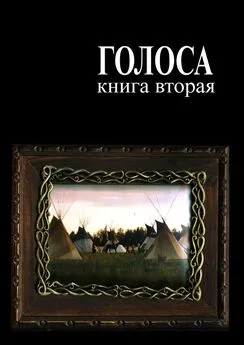
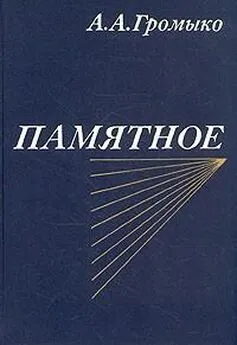
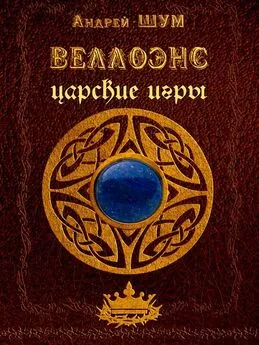

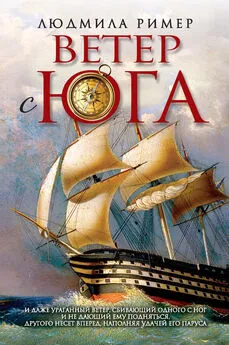
![Андрей Буревой - Варги. Книга вторая [СИ]](/books/1059078/andrej-burevoj-vargi-kniga-vtoraya-si.webp)