Владимир Пронников - Японцы (этнопсихологические очерки)
- Название:Японцы (этнопсихологические очерки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Пронников - Японцы (этнопсихологические очерки) краткое содержание
Книга знакомит читателей с особенностями японского национального характера. Используя обширный фактический материал и личные наблюдения, авторы выявляют национально-психологическую специфику речевой коммуникации японцев, установления с ними межличностных отношений и другие особенности их социального поведения. В книге в аспекте национальной психологии отмечается специфика управления промышленным производством и анализируется система образования.
Японцы (этнопсихологические очерки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Процедура харакири, применяемая в качестве наказания, обставлялась особенно пышно. Акт харакири обычно совершался в резиденции господина. Для этого выбиралось ночное или вечернее время. Двор посыпали крупным песком, а место самого акта устилали тонкими циновками, которые покрывались белым полотном; поверх стелилось шерстяное покрывало красного цвета. Приговоренный, одетый в легкое кимоно, усаживался на приготовленное место в позу по-япопски. К нему подходили два «секунданта», старший и младший. Младший становился за спиной приговоренного и вынимал из ножен меч. Осужденному на подносе подавали кинжал или короткий меч и помогали раздеться.
Сам акт харакири выполнялся разными способами. Вот один из них: кинжал берется в правую руку, вонзается в левый бок и горизонтально проводится ниже пупка до правого бока; затем вертикально от диафрагмы до пересечения с горизонтальным порезом; если не наступает конец, то кинжал далее вонзается в горло. Известны и другие способы [162, с. 501 С годами людей, способных соблюдать все детали процедуры, становилось все меньше и меньше. В связи с этим процедуру максимально упростили, и перед ее отменой в период реставрации Мэйдзи она выглядела значительно проще: осужденный брал в руки поднесенный ему на подносе кинжал, а «секундант», стоящий за его спиной, тут же сносил ему мечом голову. Раньше в обязанности младшего «секунданта» входило прекращать мучения человека, вспоровшего себе живот. С течением времени этот «секундант» превратился в палача.
Харакири как акт лишения себя жизни со временем изжил себя в Японии. Однако духовная подоплека этой кровавой процедуры оставила глубокий шрам в психологии нации. Этот шрам все еще кровоточит.
О том, что дух бусидо продолжает витать над Японскими островами, говорят данные исследований Института математической статистики Японии по проблеме «Национальный характер». На вопрос: «Как вы расцениваете поступок 47 самураев периода Токугава, отомстивших за смерть своего господина?» – 29% опрошенных ответили, что они этот поступок одобряют, 34% сказали, что это было правильно для того времени, и только 11% высказались критически. На вопрос: «Оправдываете ли вы действия человека, когда он совершает самоубийство в результате коллизии между моральным долгом и требованием обстоятельств?» – 20% ответили утвердительно (по каждому вопросу опрашивалось 2254 человека) [266].
Однако в какой степени дух бусидо сохраняет значение сегодня? Какова его регулирующая сила?
Конечно, современный японец с иронией смотрит на наставления «Хагакурэ» и удивляется тому, что когда-то в его стране господствовал кодекс харакири. Тем не менее японец как-то воодушевляется, когда вокруг начинают обсуждать названные проблемы. Иначе и быть не может: ведь это плоть и кровь японской нации, ее история.
Когда зарубежные историки дискутируют между собою по поводу бусидо, они подчеркивают в основном две стороны этого явления: догматы самурайской доблести и их проявление в японской культуре; специфическое отношение японцев к самоубийству. При этом нередко делаются довольно категоричные выводы, например: «бусидо – это норма социальной жизни японцев» или «японцы склонны к самоубийствам».
Мы не разделяем такой крайности. Тщательное изучение проблемы социальной регуляции в Японии показывает, что здесь имеются свои тонкости.
Согласно исследованиям Кадзуо Накамуры, накануне войны и в первые послевоенные годы уровень самоубийств в Японии был весьма велик. В последующие годы число самоубийств сокращалось, правда, оставаясь еще сравнительно высоким. Так, в 1961 г. зарегистрировано 18216 самоубийств, что составляет 20% всех умерших. Тем не менее к этому времени по проценту самоубийств Япония занимала третье место в мире.
Обычно самоубийство в Японии совершается в одиночку, однако в отличие от других стран здесь нередко имеют место и групповые самоубийства. Так, в середине 50-х годов регистрировалось более 1200 таких случаев ежегодно. Довольно много групповых самоубийств происходит и сейчас. Среди них влюбленные неизменно занимают первое место.
Такие самоубийства называют в Японии синдзю (самоубийство по сговору) или дзёоси (романтическое самоубийство); такие самоубийства впервые стали практиковаться накануне эпохи Эдо. Им близки по духу различные виды кровавых торжественных клятв: вырывание ногтей, протыкание руки или ноги кинжалом, отрубание пальца и т. д. Самоубийства влюбленных совершались путем вскрытия вен, перерезывания горла, повешения… Примерно в середине XVII в. эти виды самоубийств были поставлены под запрет, однако они не исчезли и поныне.
Э. Дюркгейм в своем трактате о самоубийствах утверждает, что в каждой стране они совершаются по-своему, однако К. Накамура не подтверждает подобную «стабильность» способов лишения себя жизни применительно к Японии. Согласно его данным, способы самоубийства меняются. В 60-х годах в Японии возросло количество самоубийств с помощью сильнодействующих ядов. Женщины часто используют кухонный газ, а мужчины – холодное и огнестрельное оружие.
Несмотря на тот факт, что Япония отличается большим процентом самоубийств, нельзя говорить о какой-то этнической предрасположенности японцев к самоубийству. Доказательств этому просто не существует.
По мнению Накамуры, самоубийства часто зависят от социального окружения, отношения религии, других институтов к сущности самоубийства. Дух бусидо, конечно, оказал определенное воздействие на практику самоубийств, однако регулирующая сила бусидо резче проявляется в поведении, связанном с демонстрацией своей национальной приверженности и верности долгу. Это хорошо видно на примере одной, весьма примечательной истории.
В середине марта 1974 г., через три десятка лет после выхода Японии из войны, на Филиппинах состоялась «капитуляция» одного из подразделений японской армии, воевавшей здесь до 1945 г. В живых остался лишь один командир группы спецназначения подпоручик Онода. Об этом факте сообщалось во многих газетах мира. Японский журнал «Мантайм», рассказывая о «капитуляции» Онода, изумил читателей фактом необычно-обычного поведения своего соотечественника. Советский журналист Юрий Бандура подробно повествует об этом событии [33].
В конце 1944 г. командир подразделения войск специального назначения императорской армии майор Танигути вызвал подпоручика Оноду и отдал ему следующий приказ:
– Вам надлежит укрыться в горах острова Лубанг. Ваша цель – террор, подрывная работа, сбор информации о противнике. Мы еще вернемся на Лубанг, и задача вашей группы – облегчить нам возвращение. Все ли ясно?
– Так точно!
– Тогда последнее. Приказ этот отдаю вам я. И никто другой, кроме меня самого, не вправе его отменить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
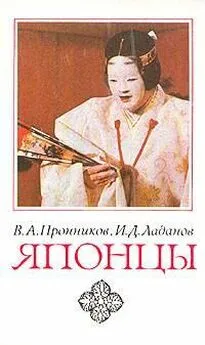
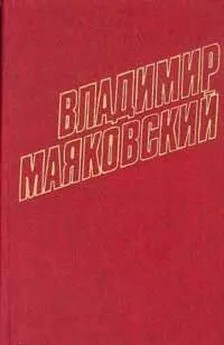




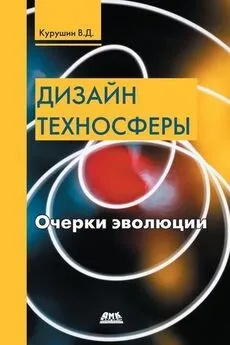

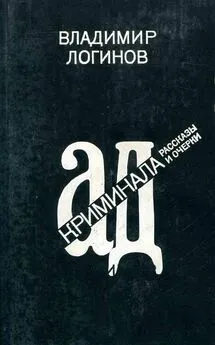
![Владимир Верников - Тропой флибустьеров [Очерки]](/books/1093118/vladimir-vernikov-tropoj-flibusterov-ocherki.webp)
