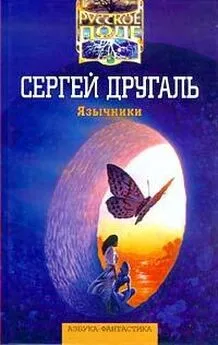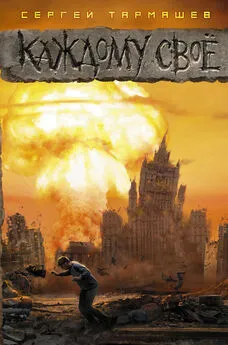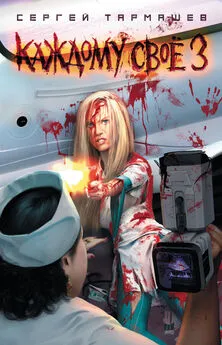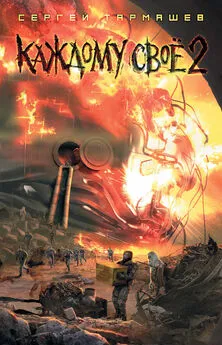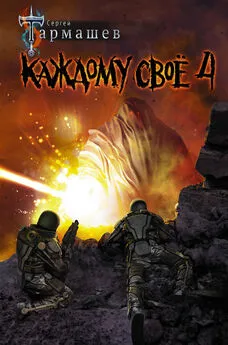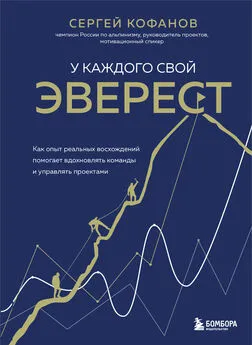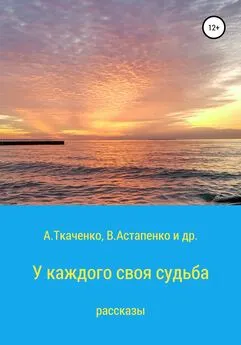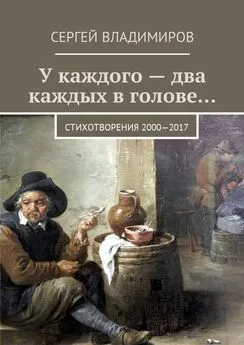Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
- Название:От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе краткое содержание
Каждая творческая личность, жившая при советской власти, испытала на себе зловещий смысл пресловутого принципа социализма (выраженного, правда, другими словами): от каждого – по таланту, каждому – по судьбе. Автор для иллюстрации этой мысли по вполне понятным причинам выбрал судьбы, что называется, «самых – самых» советских поэтов и прозаиков. К тому же у каждого из них судьба оказалась изломанной с садистской причудливостью.
Кратко, но в то же время и достаточно полно рисуются трагические судьбы С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Горького, М. Булгакова, А. Фадеева и А. Платонова.
Все предлагаемые вниманию читателей очерки основываются на новейших исследовательских материалах. Написаны они на строго документальной основе, в них нет подмены фактов авторскими домыслами. Автор лишь, что вполне естественно, предложил вниманию читателей свое вúдение судеб этих замечательных писателей.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
От каждого – по таланту, каждому – по судьбе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Похоронили и стали быстро забывать и поэта, и его поэмы. Книги «горлана-главаря» перестали издаваться. Маяковского собирались изъять и из школьных программ. Главное – его перестали читать. И вдруг… уже во второй половине 30-х годов всё радикально переменилось: Маяковского стали не просто навязывать читателю, его стали «вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен…» Так писал добрейший Б. Пастернак.
Что же произошло? 24 ноября 1935 г. Л. Брик по совету то ли О. Брика, то ли Я. Агранова (мнения расходятся) написала письмо Сталину. Пожаловалась вождю, что «крупнейший поэт революции» начинает забываться, издан далеко не весь (публикация «Полного собрания сочинений» притормозилась), с эстрады его стихи более не читают, да и не увековечен никак. Л. Брик писала: «… его стихи не только не устарели… они… являются сильнейшим революционным оружием… Он… как был, так и остался крупнейшим поэтом революции…». Письмо Л. Брик передал Сталину предмет ее очередной «свободной любви», заместитель командующего Ленинградским военным округом В.М. Примаков.
Сработало. Сталин взял свой любимый карандаш и начертал наотмашь: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву… Сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если моя помощь понадобится – я готов. Привет. И. Сталин». (Выделено мною. – С.Р. )
С этого и началось признание и насильное внедрение поэзии Маяковского. Он стал советским классиком. Мгновенно забронзовел, покрылся патиной и перестал восприниматься как некогда живая личность. Он был и остался в сознании большинства «агита-тором, горланом-главарем».
Хочется возразить Б. Пастернаку: с указания Сталина началась не «вторая смерть» Маяковского. Напротив, Сталин воскресил память о нем. И инерция этого воскресения продолжается.
Марина Цветаева
«В Бедламе нелюдей отказываюсь – жить»
Марина ЦветаеваИ. Бродский в одном из интервью уверенно назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. Причем не среди русских, а среди всех. Добавлю только, что у нее же была и самая тяжкая, нечеловечески тяжкая судьба.
Те, кто мало-мальски знают биографию Цветаевой, на вопрос, что все-таки предопределило ее судьбу со столь страшным финалом? – чаще всего называют семью: мужа и детей. Даже ее дочь, А.С. Эфрон, искренне думала, что Цветаева дважды ломала свою жизнь из-за мужа: первый раз, когда уехала к нему в эмиграцию, второй раз, когда вслед за ним вернулась на родину.
Муж для Цветаевой был всем: объектом ее пылкой страсти (недолго), человеком, чьими нравственными качествами она не могла не восхищаться (всю жизнь), наконец, отцом ее детей и тяжким крестом, который она, как истинно русская женщина, смиренно пронесла до конца.
10 ноября 1923 г. она делится со своей тетрадью сокровенным, признает, что ее встреча с Эфроном в далекой юности, к сожалению, поспешно привела к браку, «слишком раннему со слишком молодым». Это, конечно, правда, но далеко не вся. И не будем корить Эфрона за его ординарность, за то, что он оказался патологическим неудачником, что не стал он, наконец, той единственной опорой, которая все же смогла бы облегчить его жене одной нести тяжкий семейный крест. Не в том суть. Не будь у него этих, да и многих других, не отмеченных нами качеств, все равно их брак был бы мучением. Впрочем, и любой другой уже через короткое время стал бы для Цветаевой не жизнью с любимым человеком, а всего лишь «совместностью».
Она не могла (по природе своей) долго любить, но и без любви – не могла. Как только Цветаева кем-то увлекалась, она, образно говоря, безоглядно кидалась ему на шею и удалялась с ним в свой собственный, только ей одной доступный мир. Однако довольно быстро необходимая подпитка такой любви иссякала, ей становилось «не интересно», и она начинала вновь задыхаться в одиночестве. Ей пора было влюбляться снова. Причем чаще всего эти ее «любови» были чистой воды «литературой», но и этого ей было достаточно. Плотские услады никогда для Цветаевой не были главными. Определяло всё – нацеленность на любовь.
Не принесло ей счастья и материнство. Она три раза рожала. Но для детей не становилась мамой, а оставалась Мариной. Так ее звали и дочь, и сын. Ариадну (Алю), свою старшую дочь, она обожала до тех пор, пока могла гордиться ею: удивительно привлекательная детская мордашка с громадными («Серёжиными») глазами, раннее, совсем не детского уровня интеллектуальное развитие, – одним словом, до тех пор, пока она имела возможность похвалиться своей Алей, пока она, как и все, к ним приходящие, не переставала восхищаться этим удивительным ребенком. Но как только Аля подросла и стала походить на других детей, она тут же перестала быть объектом обожания матери, настало душевное отчуждение, а за ним – ссоры, скандалы и почти полный разрыв. Почти ту же эволюцию прошли и отношения Цветаевой с сыном Георгием (Муром).
Впрочем, обо всем этом мы еще поговорим.
В октябре 1935 г., когда семьи в понятном для каждого смысле у Цветаевой, можно сказать, уже не было, она призналась в письме к Б. Пастернаку: «Собой (ду-шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах – редких…».
Да, собой Цветаева была только на «одиноких дорогах», но на таких дорогах (без людей) стихи не рождаются. Для вдохновения нужна почва, которая бы могла укоренить их. И такой «почвой» для Цветаевой были люди, вполне конкретные, которые чем-то, пусть на мгновение, но приковывали к себе ее внимание. «Всеми моими стихами я обязана людям, которых любила, – которые меня любили – или не любили ». Это признание занесла в свою тетрадь уже 47-летняя Цветаева в январе 1940 г.
И еще один штрих. Воображение для любого поэта определяет, если можно так сказать, творческий ареал, то жизненное пространство, которое попадает в его энергетическое поле. Для Цветаевой воображение значило значительно больше, оно не только подпитывало ее творчество, оно вело ее по жизни – от рождения до смерти. Оно диктовало Цветаевой ее поступки, оно давало ей, как и любому крупному поэту, знание будущего, почти математически точное. Между тем и творческое воображение было зачастую бессильно перед ее выбором, ибо вариантов по сути не было: был один сплошной долг – перед семьей, перед тем выбором, который она когда-то раз и навсегда сделала. Он и вел ее за руку всю жизнь и в итоге привел… в петлю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: