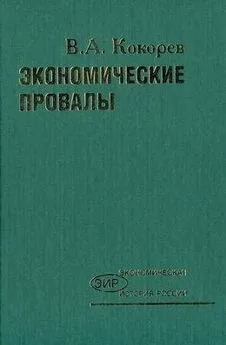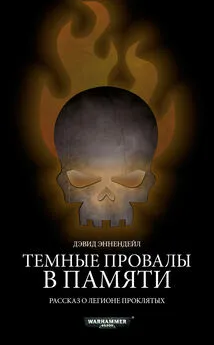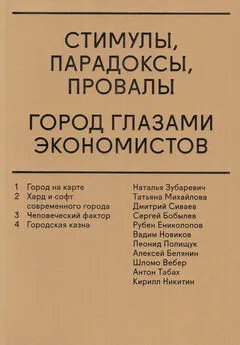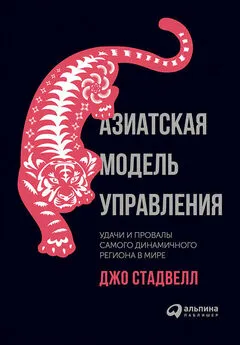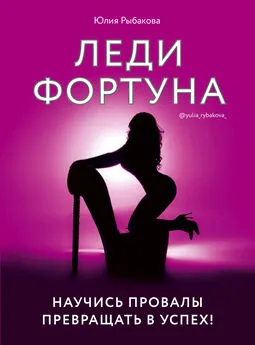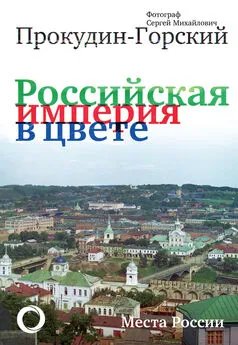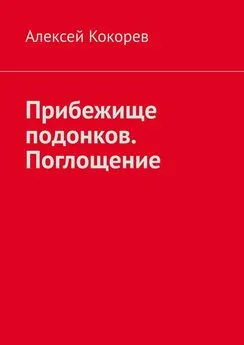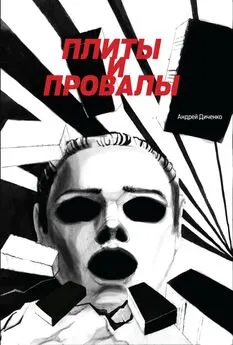Василий Кокорев - Экономические провалы
- Название:Экономические провалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Кокорев - Экономические провалы краткое содержание
Василий Александрович Кокорев (1817-1889) - знаменитый русский предприниматель, благотворитель, меценат, видный общественный деятель и публицист.
"Экономические провалы" - главное публицистическое произведение Кокорева, его политическое завещание, обращенное к русской общественности. В ней русский предприниматель призывает отказаться от слепого подражательства Западу и перейти к поиску своих внутренних начал для экономического возрождения России. "Пора государственной мысли, - пишет он, - прекратить поиски экономических основ за пределами России и засорять насильственными пересадками родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу".
Экономические провалы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Свершилось! Мы разорились, обеднели и погрязли в неоплатных долгах, а влияние Европы стало нас придавливать самою ужасною тяжестью - тяжестью благоволения. И пошла русская жизнь, кое-как путаясь с нога на ногу, с поддержкою ее милостивыми благодеяниями европейских банкиров, которые до того вошли во вкус порабощения нас своей денежной силе, от нас же ими заимствованной, во все время всех предыдущих провалов с 1837 г., что при последних займах, как было это слышно, требовали уже обязательств от русского правительства о невыпуске денежных беспроцентных бумаг. Как ни тяжело наше настоящее положение, но если бы мы могли, наконец, сказать сами себе, что обеднение наше раскрыло нам глаза и дало истинное понятие о всех наших провалах и, главное, о причинах, их породивших, тогда бы русская земля нашла в себе средства к выходу из всех окружающих ее затруднений. "Спасение наше дома, в своей земле" (слова М.П. Погодина). И кто ведает непостижимые судьбы Всевышнего? Кто знает, что переживаемое нами угнетение не есть ли путь к нашему вразумлению и возрождению, путь к переходу в ту светлую область соединения мудрой царской воли с народным смыслом, где уже никакие они не будут в силах вносить в народную жизнь ядовитых измышлений?
Следовало бы, прежде чем придти к мысли о невозможности печатать беспроцентные бумажные деньги, определить, сколько для всей русской жизни нужно вообще денег, чтобы можно было расплачиваться ежедневно за труд рабочих по сельскому хозяйству и фабричному производству и т. д.; потому что при неимении монеты, исчезнувшей по случаю прежде изложенных провалов и предательских тарифов, надобно, чтобы были, по крайней мере, в потребном количестве бумажные знаки ценности. Затем следовало бы принять в соображение наши расстояния, например: Кавказ - Архангельск, Иркутск - С.-Петербург, Москва - Ташкент, Варшава - Амур и т. д. У нас никакого исчисления по этому основному вопросу еще никем не сделано, и мы сами не знаем, много или мало у нас денежных знаков, и скорее надобно думать, что их мало, по тем затруднениям, какие повсюду встречаются в денежных расчетах. Безусловные поклонники чужеземных правил, не входя ни в какие подробности и не исчислив размера нужного для крайних надобностей количества денег, громогласно вопиют на всякие лады о невозможности выпуска бумажных знаков, для какого бы общеполезного и выгодного государственного дела они ни понадобились. Голоса эти слышатся с 1856 г., после которого к России присоединились умиротворенный Кавказ и затем Амур, Ташкент, Каре и Батум, породившие новую потребность в оборотных денежных средствах. Но финансисты ничему этому не внемлют, ничего знать не хотят и продолжают петь свою песню и единично, и хором, в домах, в комитетах и на распутьях. В период времени от 1860 до 1875 г., все стояли за невозможность выпуска, и даже самые патриотические люди, Ф.В. Чижов и И.К. Бабст, принадлежали к этому же воззрению, и в целой России, в обществе и печати, раздавались только три голоса, желавшие для постройки железных дорог появления беспроцентных железнодорожных бумаг, вместо разорительных процентных займов за границею. Это были М.П. Погодин, А.П. Шипов и АА. Пороховщиков; но их за этот взгляд называли не только отсталыми, но и юродивыми.
Здесь кстати будет рассказать следующее событие. Чижов и Бабст начали издавать в 60-х годах "Вестник промышленности"; имена их были настолько звучны, что редакция журнала "Экономист", издающегося в Брюсселе, обратилась к ним с просьбою о присылке в Брюссель молодого человека, знающего русский и французский языки, для перевода статей из "Вестника промышленности" в бельгийский экономический журнал, каковая просьба и была удовлетворена. Через год после этого Чижову пришлось быть в Брюсселе и посетить редакцию "Экономиста", где обратились к нему, как он мне рассказывал, с просьбою взять от них обратно русского юношу. На вопрос Чижова, почему этот юноша им не нравится, отвечали, что юноша очень хорош, но что экономические статьи "Вестника промышленности" не заслуживают перевода на французский язык, потому что в них нет ничего своего, доказывающего силу русского самовозрождения, и все вертится около давно известных европейских взглядов, во многом уже отживших свой век. Вот какой взгляд выразила западно-экономическая литература на те иностранные воззрения, пред которыми мы раболепно преклонялись.
Если бы мы построили железные дороги на свои бумажные деньги и не состояли в обязанности никому платить процентов, то разве бы не могли ежегодно обращать чистый доход от дорог на погашение выпущенных бумаг и тем самым производить изъятие их из обращения? Изъятие это совершилось бы гораздо скорее, чем теперешние погашения заграничных займов, потому что не было бы надобности оплачивать потери реализации и биржевого курса, равно и процентов по займам. Да, мы могли бы спасти себя от задолженности; но мы хотели в глазах Европы быть ее покорными учениками, мы считали это за особую честь и не смели заикнуться о выходе на свой собственный путь, предпочитая лучше увязнуть по самое горло в долгах и завязить в эти долги несколько будущих поколений, лишь бы только Европа признавала нас достойными своей приязни. Сыграв таким образом, что называется, в дурачки, мы не приобрели ни малейшей привязанности к себе со стороны Европы, как это показали последствия. Скажем несколько слов вроде азбучных прописей: привязанность составляет плод уважения, а уважение принадлежит только тому, в ком видят самостоятельность мысли и действия.
Мнимая необходимость делать заграничные займы объяснялась, между прочим, мнимым человеколюбием, дабы народ, при выпуске домашних бумаг, не имел убытка от падения цены русского рубля, до чего, впрочем, народу нет никакого дела, потому что он за границу не ездит и с курсом никакой связи не имеет, а между тем теперь вся тягость по уплате внешних займов упала на народную жизнь в виде многоразличных новых налогов, возникших в последнее время. Кроме вышесказанных причин, действиями наших финансистов руководило желание изобразить из себя единственных и необходимых людей, знающих какую-то финансовую науку, которой якобы никто, кроме них, не знает.
Напущенный на нас туман под вымыслом науки со всею его запутанностью заставляет многих предполагать, что финансисты уподобляются алхимикам, знающим секрет философского камня, и что поэтому надобно во всем подчиниться их воззрениям, а камень этот, в то время, пока мы еще не погрязли в заграничных долгах, был самый простой: приход, расход, с устранением всего излишнею и ненужного, а затем остаток или недостаток, с покрытием последнего пропорциональною на всех раскладкою, сообразно средствам каждого. Хотя эта раскладка далеко не составила бы и половины той суммы, которую теперь надобно платить народонаселению по заграничным займам, но разве можно было такую простую мысль вдолбить в головы финансистов, зараженных каким-то высшим европейским прогрессом!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: