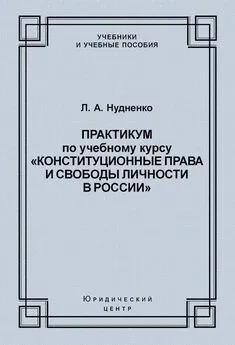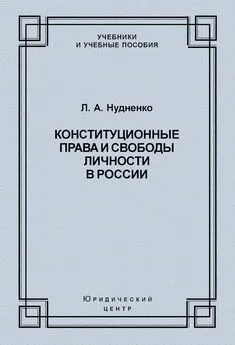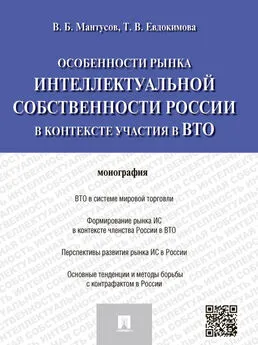Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России
- Название:Традиции свободы и собственности в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Горянин - Традиции свободы и собственности в России краткое содержание
Александр Горянин
Традиции свободы и собственности в России
От древности до наших дней
Традиции свободы и собственности в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тема зловещей работы российской интеллигенции по подготовке катастрофы 1917-1922 годов сильно избита, но обойти ее нельзя. Эта подготовка велась — из лучших побуждений, конечно, — не менее ста лет. Усилиями писателей, поэтов, философов, историков, журналистов и прочих властителей дум был сконструирован виртуальный (как мы бы сказали сегодня), почти не имеющий отношения к реальной действительности мир, где на одном полюсе метались, страдали от окружающей косности и досматривали четвертый сон Веры Павловны то ли «лишние», то ли «новые» люди, а на другом страдал (но, правда, не метался) народ-богоносец, которого скорее надо звать к топору.
Россия росла, строила новые города, прокладывала железные дороги и телеграфные линии, спускала на воду корабли, снаряжала экспедиции, реформировала суд, образование, армию, земельные отношения, присоединяла Среднюю Азию, освобождала Балканы от турецкого ига, осваивала и заселяла Сибирь и Дальний Восток, а интеллигенция (та, передовая) все это презирала.
Тогда она действительно была кастой. Ее бы возмутила даже теоретическая возможность числить в своих рядах создателя кронштадтских фортов или уездного предводителя дворянства. Это же были слуги ненавистного режима.
Русская интеллигенция страшно носилась со своей «исторической виной перед народом» («Вот парадный подъезд. По торжественным дням…» и так далее). Часть потенциала этого чувства вины воплотилась в благие дела — в первую очередь, в земское движение, в «теорию малых дел», в общественные начинания, а наиболее опасный остаток был целенаправленно канализирован в революционную деятельность.
Подобного народопоклонства никогда не знала, например, Англия. Английская аристократия делала со своим народом что хотела — сгоняла с земель, когда разведение овец становилось доходнее выращивания ржи, превращала в бродяг и потом тысячами вешала за бродяжничество или кражу булки (см. выше), но при этом спала спокойно — как и английские интеллектуалы, за редким исключением. Может быть, именно это спокойствие помогло английскому правящему классу начать во времена Промышленной революции социальные реформы, более или менее успешно продолжающиеся и поныне и обеспечившие Англии уже полтора века вполне приемлемого классового мира.
Совестливая же русская интеллигенция вплоть до 1917-го оставалась питательной средой ниспровергателей и разрушителей. Автор предельно честных «Очерков семейной хроники» Владимир Троицкий описывает своих друзей-гимназистов — поколение тех самых будущих русских интеллигентов, которым предстояло в тридцать лет пережить революцию, в сорок — в качестве «спеца» трудиться на одном из фронтов первой пятилетки, а в пятьдесят — угодить или, если повезет, не угодить во всесоюзную мясорубку. «Мы, само собой разумеется, были на стороне забастовщиков [участников политической стачки октября 1905 года]. Это так было весело! В нас было сознание своей коллективной мощи, и наш вид, озорных и бесшабашных молодчиков, заставлял боязливо сторониться нас некоторых инакомыслящих — я сказал бы, действительно разумных людей. Но мы, зеленая молодежь, невежественная и глупая, и нам, как баранам, все поступки наши и дикие выходки, пожалуй, простительны. Однако ведь нами кто-то руководил, какие-то пожилые образованные и ученые люди. Куда же они нас толкали?… Террористические акты против власть имущих приняли широкие размеры. Ни каторга, ни виселица — ничто не сдерживало молодежь от стремления запечатлеть свое имя в истории. Эта рисовка покупалась дорогой ценой. Но благодарное потомство оценило их жертву одним словом: дураки!.. Когда я слышу слова “народ взял власть в свои руки”, меня коробит эта ложь».
Мы не можем кинуть камень в русскую интеллигенцию за то, что она грезила политической свободой. Был краткий период, когда у нее началось что-то вроде протрезвления. В 1909 году вышел сборник «Вехи», специально посвященный ее идейному тупику, безрелигиозности, нигилизму, беспочвенности, отщепенству от государства. Авторы сборника, в первую очередь Сергей Булгаков, очень точно (и пророчески) подметили, что для радикальной интеллигенции и ее теоретиков политика выше духовной жизни, а задачи распределения важнее задач производства. Они предостерегали от социалистической ереси, показывали враждебность этой ереси культуре, ее нацеленность на разрушение, неспособность к созиданию. Интеллигентов («передовых», конечно) призывали вернуться к Богу, к идеям права и личной ответственности, к отказу от социального мессианства. И, кажется, впервые прозвучало роковое: «Интеллигент — по существу, иностранец в родной стране». И это после полувека усердного «народолюбия»!
«Вехи» вызвали яростные споры, но не сбили русскую интеллигенцию с гибельного курса. Ее радикальный настрой распространялся в верхние слои общества, заражая их своим настроем на несотрудничество с властью в ее усилиях по реформированию России, более того — на противодействие этим усилиям.
Плоды отщепенства
А потом произошло то, что произошло — большевистский переворот и гражданская война. Интеллигенции предстояло еще раз сыграть трагическую роль. Верная заветам «любви к народу», значительная часть ее сразу пришла к большевикам как выразителям народной правды — такое заблуждение короткое время еще жило. Ныне почему-то забылось, что вся большевистская верхушка — как в столицах, так и в провинции — состояла (без единого исключения!) из людей, не имевших ни малейшего опыта управления чем бы то ни было. Они ничего бы не сделали с захваченной страной, если бы не добровольцы из интеллигенции, имевшие такой опыт.
Значительная часть интеллигенции — в основном, не числившаяся в рядах «передовой» — отказалась от сотрудничества с новой властью. Ее судьба печальна. Эмиграция — это был почти благоприятный исход для таких людей. Тысячи попали, как «буржуазия», в заложники и были в этом качестве расстреляны. Кто-то из молодых сумел пробраться в белую армию. Сотни тысяч были выселены из своих квартир, «уплотнены», ограблены, умерли от голода, тифа и «испанки». Перечисляя ставшие известными жертвы, не надо забывать о том, что судьба огромного количества заметных в своей сфере деятельности людей осталась неизвестной — коллеги впоследствии не смогли отыскать их следов. И почти всем, кто уцелел, все же пришлось через какое-то время идти на службу новому государству. Большевики убедили нужных им специалистов не доводами, а хлебной карточкой. Но самая печальное дальше.
Поражение белых — а чаши весов не раз сходились с аптекарской точностью — в конечном счете объясняется тем, что белые не смогли наладить в очищенных от своих врагов областях гражданское управление, не смогли привлечь на свою сторону управленцев и других специалистов. Те видели в белых «реакционную силу» и, в большинстве своем, уклонились от сотрудничества. Другими словами, белые не смогли привлечь все ту же интеллигенцию. Белые не умели использовать такой рычаг как продовольственная карточка. К тому же, на белых территориях с продовольствием, как правило, все было в порядке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: