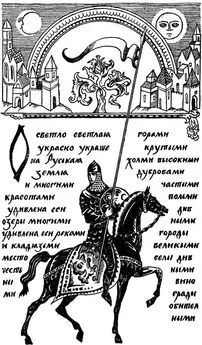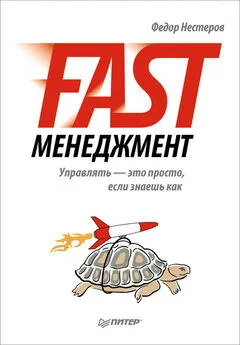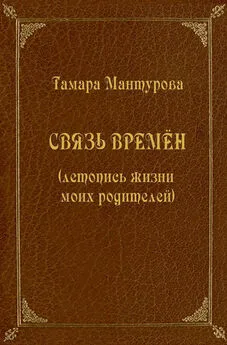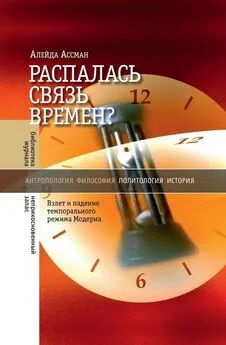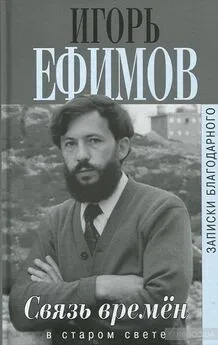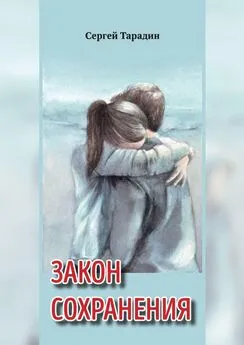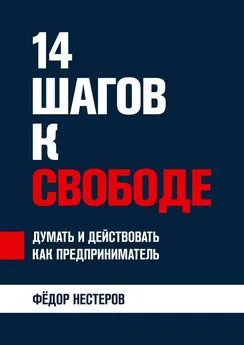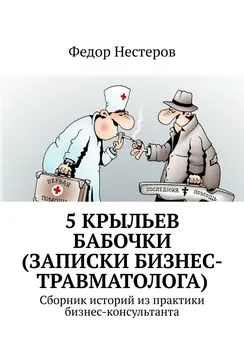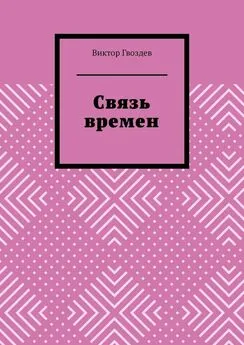Федор Нестеров - Связь времен
- Название:Связь времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Нестеров - Связь времен краткое содержание
Книга кандидата филологических наук, вызвавшая интерес читателей и удостоенная в 1981 году первой премии и диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» на лучшее произведение научно-популярной литературы, раскрывает своеобразие исторического пути нашей страны — родины Октября. Автор рассказывает о тех нитях, которые связывают настоящее с прошлым, показывает, почему история становится ныне ареной острых идеологических боев. Книга написана в публицистической манере и рассчитана на широкие круги читателей.
Связь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И это концентрированное и последовательное церковно-государственное идейное воздействие на сменяющиеся поколения русских людей приносило свои плоды. Не будем обманывать себя: своей поразительной стойкостью при Цорндорфе и во многих, многих других сражениях царская армия обязана не каким-то особенностям физических свойств своих солдат и офицеров (болезни косили их ничуть не меньше, чем в других армиях), но морально-политическому воспитанию, полученному ими как до призыва, так и уже под знаменами. Будущие рекруты еще подростками слушали рассказы о том, как славно «положить живот свой за други своя». В полку солдат учили суворовскому правилу: «Сам погибай, а товарища выручай»,
И призывы эти глубоко западали в душу, ибо основная солдатская масса состояла из крестьян-общинников. Ф. Энгельс так объяснял храбрость русского солдата: «Русский солдат, несомненно, очень храбр. Пока тактическая задача решалась наступлением пехотных масс, действовавших сомкнутым строем, русский солдат был в своей стихии. Весь его жизненный опыт приучал его крепко держаться своих товарищей. В деревне — еще полукоммунистическая община, в городе — кооперированный труд артели, повсюду — krugovaja poruka, то есть взаимная ответственность товарищей друг за друга… Эта черта сохраняется у русского и в военном деле; объединенные в батальоны массы русских почти невозможно разорвать; чем серьезнее опасность, тем плотнее смыкаются они в единое компактное целое» [ 16]. Отношение к своему маленькому сельскому миру, проникнутое чувством долга и бескорыстной преданности общему делу, переносилось на мир большой, состоящий в своей основе из сельских миров, на общину общин — на Россию. Законы социального микрокосма продолжали свое действие и в макрокосме: деревенская община служила практической школой общегосударственного патриотизма… «Пострадать за мир», быть закованным в цепи и брошенным в тюрьму как «ходок мира», «посланный к царю» с жалобами мира, быть выпоротым, сосланным в Сибирь или на рудники за то, что смело заступился за права мира против его притеснителей» [ 17], — таковы, по наблюдениям народника С. М. Степняка-Кравчинского, самые обыденные проявления героизма русского мужика. Легко представить себе, как должны были вести себя те же люди, но уже в солдатских шинелях… Армия, составленная из них, никогда не испытывала недостатка в охотниках, вызывавшихся идти на самые опасные задания и, если нужно, на верную смерть.
Вот картина русской деревни после объявления Крымской войны. В «Записках революционера» П. А. Кропоткин вспоминает: «…Мы постоянно слышали причитания крестьянок. Народ смотрел на войну как на божью кару и поэтому относился к ней с серьезностью, составлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в военное время в Западной Европе. Хотя я был очень молод, но и тогда понимал чувство торжественной покорности судьбе, которое господствовало в деревнях» [ 18]. Русский народ невоинствен, он не любит воевать, будущие победы не приводят его заранее в восторг (слишком большой кровью платил он за прошлые), и весть о войне он встречает не ликованием, не огнем фейерверков и звоном литавр, а бабьим плачем по деревням. Но это военный народ: когда царь после поражений в Крыму издает манифест, призывающий добровольцев в ряды ополчения, крестьяне, хорошо помнившие 1812 год, огромными толпами собираются в городах, буквально осаждая призывные пункты.
Да, крестьянки причитали над своим сыном, братом, мужем: «На кого же ты нас покидаешь!», пока тот куражился в пьяном угаре. С ним прощались как с покойником заранее. И он прощался навек. Даже если доведется вернуться сюда после двадцати пяти лет солдатской службы, все здесь будет не то: он отвыкнет от крестьянского труда, и односельчане отвыкнут от него, родители умрут, и жена не будет ему верна. Подобно тому как монах уходил из мира, порывая все кровные связи с ним, становился рекрут под знамя с двуглавым орлом. И он был горд этим знаменем, был горд тем, что на его долю выпала высокая честь послужить России, что он отныне не человек своего барина, а слуга царю. Он просто не поймет своего «доброго» генерала, когда тот предложит ему участие в дворцовом перевороте в обмен на послабление по службе: он не наемник, он не торговался перед тем, как принести присягу, и он останется ей верен до конца. Ему нечего терять, ему не на что надеяться, и ему ничто не страшно — вот почему он встретит, не дрогнув, вражеские ядра, вот почему, простреленный и порубленный, он будет стоять, пока держат ноги, и, умирая, целовать ствол своего ружья. Самодержавие было сильно русским патриотизмом — страшной реакционной силой, пока он служил царю.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
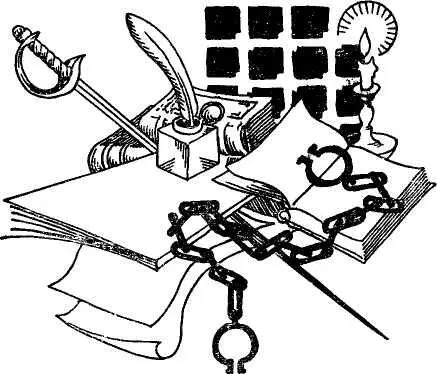
«Глядя на Петербург, размышляя об ужасной жизни обитателей этого военного лагеря из гранита, можно усомниться в милосердии господа, можно жаловаться, можно богохульствовать, но невозможно скучать. Во всем этом есть некая непостижимая тайна и в то же время — какое-то чудесное величие. Деспотизм, так организованный, становится неисчерпаемым источником наблюдений и размышлений. Эта колоссальная империя, поднимающаяся на востоке Европы, той самой Европы, (что страдает от оскудения всякой признанной власти, производит на меня впечатление выходца из загробного мира. Мне все кажется, что передо мной какой-то ветхозаветный народ, и я останавливаюсь с ужасом, смешанным с любопытством, у ног этого допотопного колосса» [ 1].
Так о николаевской России писал маркиз де Кюстин в 1839 году. А в 1901 году В. И. Ленин характеризовал российское самодержавие как «чисто военную, строго централистическую, руководимую до самых мелочей единой волей организацию русского правительства, нашего непосредственного врага в политической борьбе» [ 2]. Русская революция имела перед собой сильного противника.
Де Кюстин, либеральный консерватор или консервативный либерал по политическим убеждениям, предвидит русскую революцию и боится ее: «Представьте себе республиканские страсти…клокочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия — котел с кипящей водой, котел, крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. И не я один его боюсь» [ 3]. Вождь российского и мирового пролетариата также видел диалектическую связь между взаимоисключающими противоположностями, на которые раскололась Россия, но в отличие от французского маркиза не имел, конечно, оснований опасаться «взрыва»: «Закон механики гласит, что действие равно противодействию. В истории разрушительная сила революции тоже в немалой степени зависит от того, насколько сильно и продолжительно было подавление стремления к свободе, насколько глубоко противоречие между допотопной «надстройкой» и живыми силами современной эпохи» [ 4]. При всем различии эмоциональной окраски обе оценки перспектив русской революции по существу совпадают. Мучительно долго для трех поколений русских революционеров разгоралось из искры пламя, но зато взрыв потряс весь мир.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: