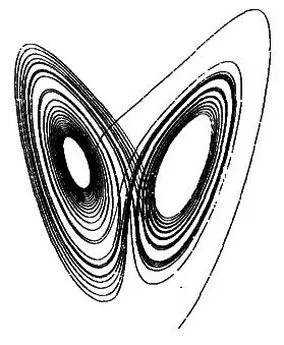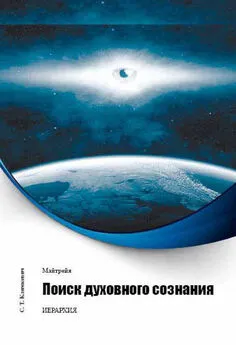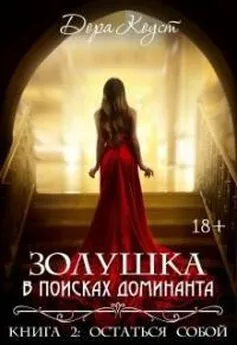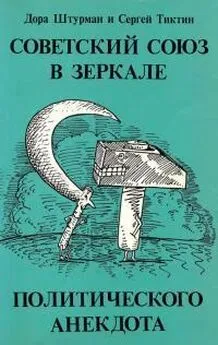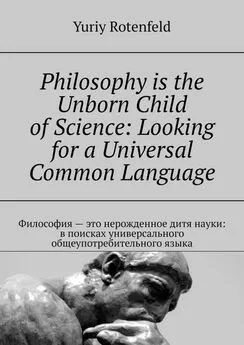Дора Штурман - В поисках универсального сознания
- Название:В поисках универсального сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дора Штурман - В поисках универсального сознания краткое содержание
В 1992 году в седьмой книжке «Нового мира» была опубликована статья Ренаты Гальцевой «Возрождение России и новый „орден“ интеллигенции». В прошлом году на страницах журнала появились материалы Д. С. Лихачева «О русской интеллигенции» (№ 2) и Алексея Кивы «Intelligentsia в час испытаний» (№ 8). В предыдущем номере напечатана статья Андрея Быстрицкого «Приближение к миру». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей большую работу нашего постоянного автора Доры Штурман «В поисках универсального со-знания». Переосмысливая статьи знаменитого сборника «Вехи», Д. Штурман продолжает разговор о месте и роли российской интеллигенции в трагических событиях отечественной истории XX века.
Опубликовано в журнале «Новый Мир» 1994, № 4.
В поисках универсального сознания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не «всякого», а более позднего, более отдаленного от общины и рода «обычного права», воспринимаемого как более развитое. Не следует забывать, что помимо — в сравнении с Европой — молодости в России общинная психология и общинное правосознание народа консервировались еще и искусственно затянутым верховной властью и поместным барством крепостным правом.
За культивирование и сохранение общинных правовых традиций воюют, с одной стороны, крайние ретрограды и обскуранты, с другой — идеалисты-славянофилы, с третьей — социалисты, каковым ощущает себя и Кистяковский:
«Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать укреплению и развитию общинных начал; вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешало осуществлению этой задачи и привело интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противоестественно; оно ведет к уничтожению и дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания» (стр. 143–144).
О социализме и праве, в частности — о социализме Кистяковского, несколько ниже. Здесь же отметим снятие автором мнимого противоречия между внутренними, этическими, потребностями человека и формальным, внешним, характером права:
«Всякая общественная организация нуждается в правовых нормах, т. е. в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы, однако, сами не являются чем-то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными в статьях законов или примененными в жизни, они приобретают и внешнее существование» (стр. 144).
Не став для нормального, неуголовного большинства общества категорией этической, внутренней, право не может быть обеспечено никакой полицией. Не став категорией юридической, законодательной, этический принцип не способен стать универсальным правилом поведения (о психических патологиях и нравственных аномалиях мы в данном случае не говорим: для них имеются особые правовые нормы).
Итак, Кистяковский говорит об игнорировании народного правосознания радикалами-западниками и, таким образом, оказывается среди тех, кто ориентируется на общинный инстинкт народа [11] Поздний Маркс в письмах Вере Засулич высказал (вполне народническое, а не «марксистское») предположение, что русская крестьянская община может стать ячейкой социализма в деревне. В тех же письмах прозвучало (позднее оформленное Лениным как теоретический тезис) еще одно «немарксистское» предположение Маркса: что крестьянская Россия может стать первой в Европе страной, в которой победит социалистическая революция. Как видим, Маркс был менее последователен, чем «марксисты» (Ленин — тоже). Политическая целесообразность (цель революция любой ценой) для того и другого неизменно оказывается выше всех убеждений и принципов.
. Столыпин же достаточно рано и, главное, без предвзятости устремился к постижению сути происходящего. Он пристально со времен своего губернаторства изучает положение, психологию и правосознание крестьянства как самого массового сословия России. Одновременно он анализирует (весьма объективно) миропонимание и психологию оппозиционной интеллигенции как наиболее активной части общества. Результаты этого изучения содержатся, в частности, в его годовых губернаторских отчетах, посылавшихся из Саратова на высочайшее имя. Я помню, как потрясла меня в 60-е годы полная достоинства и одновременно безупречно корректная независимость этих отчетов, их проницательность и конструктивность. Мне тогда удалось прочесть их дореволюционные публикации. В противоположность и «левым» и «правым» Столыпин отчетливо видел многосоставность крестьянского правосознания и стремился ориентировать царя на поддержку и развитие хозяйственных, ответственных, собственнических, а не общинных (роевых и родовых) его элементов. Уже тогда Столыпин стремился убедить верховную власть, что государственное законотворчество не должно ущемлять и подвергать правовой дискриминации общину, но вместе с тем обязано, и безотлагательно, поддержать, усилить в экономико-правовом и гражданском отношении класс крестьян-собственников. Он постоянно подчеркивал перед царем необходимость посредством такого законотворчества опередить деструктивное и провокативное воздействие на народ со стороны безответственных радикалов [12] В «Августе Четырнадцатого» А. Солженицына показана одна роковая для ситуации начала российского XX века особенность характера Николая II. Он был умен, доступен доводам оппонента и в диалоге выглядел толерантным. Но более твердый чужой характер, более последовательный разум рядом, ощущение в подчиненном некоей неустранимой внутренней независимости вскоре начинали его (а еще более императрицу) тяготить (ее — раздражать). И потому происходила почти автоматическая селекция: прочно в окружении царской четы удерживались только конформизм и посредственность. Исключением оказалась мистическая вера царицы в неординарного и еще весьма плохо известного историкам Распутина (не случайно его Солженицын непосредственно вводить в картину не стал). Но «старец» был целителем обожаемого родителями наследника, и здесь отношения складывались нестандартно. Столыпин же (в силу своей несгибаемой внутренней верности самому себе) при всей преданности царю и России оказался заведомо не ко двору.
. Но Кистяковский не видит в лице Столыпина необходимого России прозорливого и осторожного законодателя, как и другие авторы «Вех». И не только они.
Мне не кажется достаточно проницательным и следующее наблюдение Кистяковского:
«Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа» (стр. 130).
Относительно правосознания народа мы уже говорили и цитировали прямо противоположное высказывание того же автора. Напомню:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: