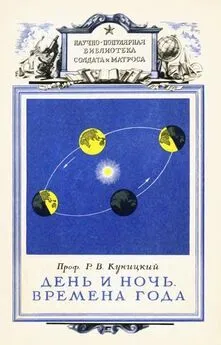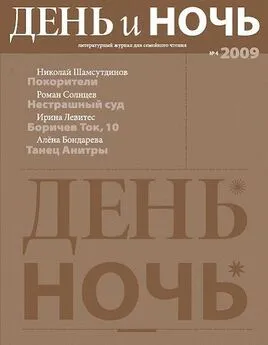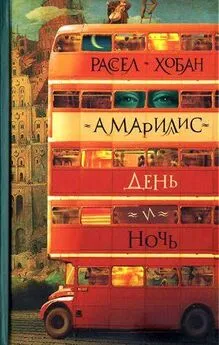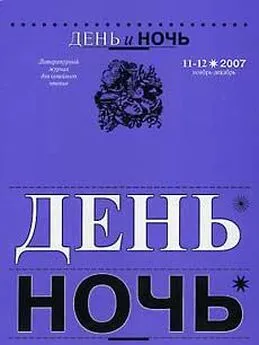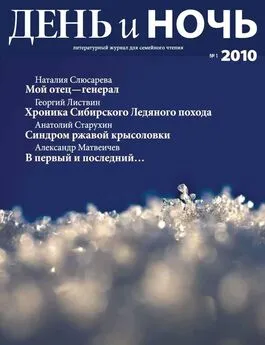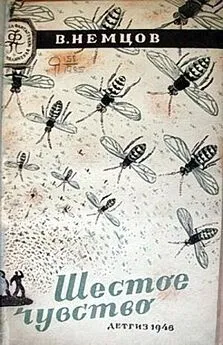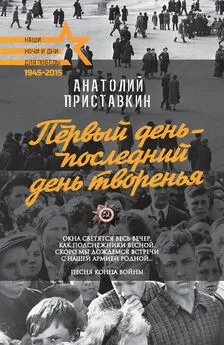Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2009 № 5-6
- Название:Журнал «День и ночь» 2009 № 5-6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“»
- Год:2009
- Город:Красноярск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Аврутин - Журнал «День и ночь» 2009 № 5-6 краткое содержание
Журнал «День и ночь» 2009 № 5-6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наверно, это были самые тяжёлые две недели в жизни всех участников поездки.
Геннадий хотел видеть рождение книги от самого зачатия и искал нового качества существования текста, потому что книгой были уже сами встречи с усталыми и уже равнодушными ко всему жителями давно перевезённых деревень до Братска. Книгой были резкие диалоги с начальниками
Братской и Усть-Илимской ГЭС. Текстом становились лоции, фото- и киноматериалы, плач старых людей и нетерпение молодых, отказ высоких начальников от встречи с экспедицией и хлеб-соль местных властей, которые ещё надеялись что-то удержать.
Исподволь делалось ясно, что и сама эта тяжелейшая поездка (труднее всего дававшаяся Валентину Григорьевичу, которому люди торопились выговорить сердце, чтобы самим стало полегче), и с надеждой глядящие на нас берега, и прекрасные даже в угасании на глазах, умирающие, пустеющие деревни, и, кажется, даже ненаглядные облака и травы, кресты кладбищ, и всякое провожавшее нас окно — всё уже было каждую минуту готовой, уже сейчас работающей книгой. Злая беспамятная новь и экономическая бесчеловечность так торопились извести жизнь, что до классической книги дело просто могло не дойти. Жизнь становилась прошлым прямо на наших глазах, и писать её надо было каждой минутой и каждым днём. И так хотелось, чтобы дни были подольше.
Как великая старуха Анна из распутинского «Последнего срока», учившая дочь, как «обвыть» её по-человечески, мы прощались с обречёнными сёлами, приговаривая: «Ой, ты, Кежма, родима матушка… Ой, ты, Едарма, Кеуль, Недокура…» Только уж не «на кого вы нас оставляете», а на кого мы бросаем вас, как неблагодарные дети своих матерей, надеясь после этого по-прежнему считаться людьми.
Геннадий глядел во все глаза, снимал, торопился ввязаться во все диалоги, выпрашивал по деревням старые фотографии, словно ощупывал каждый день и час и принимал их в сердце, где они становились какими-то ещё небывалыми страницами. Он вынашивал Книгу и слушал её движение в себе с любовью, волнением, тревогой. Он был печален и он был счастлив, если такое соединение возможно. Рождалось что-то необыкновенно значительное, совсем новое, не бывшее в мире. И его издательское сердце горело этой новизной, болью, тревогой и догадкой о совершенно сегодняшнем технологически едва рождающемся в новом времени книжным деланием. Каждый день был книгой, и он был автором, который мог на ходу уточнять «текст» жизни. И мы волновались, чувствуя это рождение и ещё не умея назвать его.
Мы расстались в Красноярске, договорившись на будущий год пройти остаток Ангары до Енисея, уже зная свои силы и свои возможности, уже предчувствуя, что мир можно если не образумить, то хоть задержать его падение. Я вернулся в Псков, чтобы начать обдумывать дневник поездки. Через день мне позвонил Сергей Элоян и, захлебнувшись слезами, сказал: «Гена умер».
Нельзя было даже закричать, чтобы понять это. Надо было только так же умереть. Мир не захотел останавливаться в своём падении. Он почувствовал врага в рождающейся книге, в силе восстающей жизни, в брошенном ею вызове.
Но участники поездки уже работают над маршрутом продолжения экспедиции. Лоции собраны, кинокамеры заряжены, перья очинены, сердце укреплено сознанием правоты и необходимости продолжения.
Издатель Сапронов продолжает своё святое человеческое дело. Теперь он издаёт Жизнь.
Блаженство и отрава
Ага, вот значит, когда надо читать впервые или перечитывать лучшие книги — когда тебе самому столько лет, сколько автору в пору написания! Тогда вы слышите друг друга равенством лет, разностью опыта и «столетия на дворе» и лучше понимаете, что меняется в разные времена в человеке, кроме платья. В особенности, если это литература о таких «недвижных» в столетиях чувствах, как любовь и физическое влечение, которые мало считаются с политическими режимами и общественным устройством мира.
Тут и в поэзии мы легко соглашаем в сердце Катулла и Пушкина, Овидия и Тютчева, Сафо и Ахматову, и в драматургии шекспировские Ромео и Джульетта легко окликают рощинских Валентина и Валентину, и в прозе аббат Прево заводит Виктора Астафьева и «Манон Леско» переглядывается с «Пастухом и пастушкой», несмотря на страшную разность веков, строя и обстоятельств.
Тут за «мастерством» не спрячешься и временем не отговоришься. Тут тебе судья — открытое читательское сердце, которое в свой час обязательно переживает бунинское «блаженство жить, сладкую муку счастья и отраву любви», переживает единственно и всеобще и не оглядывается на авторитет гения, ибо влюблённый человек сам всегда гений.
Говорят, Гёте в старости писал эротические новеллы, но целомудренные наследники и сама добродетельная Германия закрыли эти сочинения, чтобы не повредить репутации национального поэта. Русское сердце отважнее, и мы не только не утаили бунинские «Тёмные аллеи», но почтили их титулом высших достижений русской прозы (М. Рощин в ЖЗЛовской книге о Бунине зовёт день выхода этой книги историческим, а самоё её великой). И Бунин, поди, тайно гордился, что «обошёл» старика Гёте.
Мы узнали эту книгу сравнительно поздно. Только с «оттепелью», уже в середине шестидесятых запрещённый в СССР за жёсткие «Окаянные дни» Бунин добрался до нас из эмигрантского далека. А «Тёмные аллеи» и в собрание сочинений протискивались с опаской. Время ещё было «аскетическое». И. конечно, мы прочитали их со стыдливой жадностью, смущаясь, и волнуясь, и почти не зная, как говорить об этом чтении. Было не до художественных оценок, не до тонкостей стиля. Только краснеть «удушливой волной» и уносить прочитанное как тайну.
Так «Аллеи» и жили потом счастливым воспоминанием юности, словно только ей и назначались и в ней были «прописаны». И как-то забывалось, что они писаны стариком, с которым нам странно было бы делить наше молодое безрассудство и чувственное нетерпение. В этом мнилось бы какое-то извращение, как во взаимоотношениях набоковских Гумберта и Лолиты.
И я, наткнувшись на «Тёмные аллеи» в поисках другой книги, неожиданно подумал, что перечитать их сейчас, очевидно, то же, что перечитать свои юные дневники, пылающие ужасом любви и ночной откровенности, когда ты всё уже пережил, окружился внуками и вооружился рассудительным знанием о началах и концах человека и мира. А потом любопытство пересилило: что же это было? Дай, думаю, загляну. Может, подряд-то и читать не надо. Разогну на первых случайных страницах, как при гадании, и сразу всё вспомню. А разогнул на «Дурочке», «Смарагде», «Антигоне» и «Музе» и отшатнулся.
Померещилось ледяное упражнение воображения. Померещилось: вот я вам покажу этих молодых животных, у которых весь мир тут — в жаркой, бесстыдной, не сознающей себя страсти. И потом это чувство уже не оставляло при перечитывании «Дубков», «Мадрида», «Кумы», даже (как жалко!) некогда пленявшей и зажигавшей сердце «Руси».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: