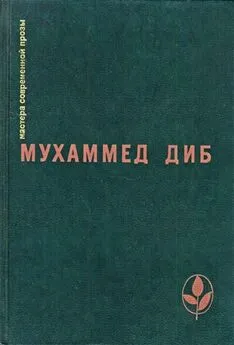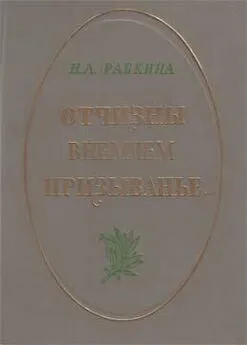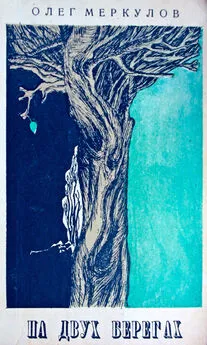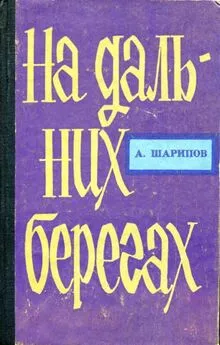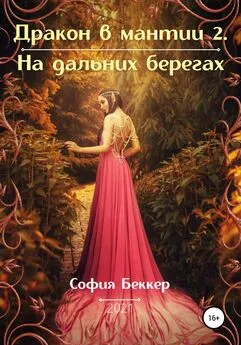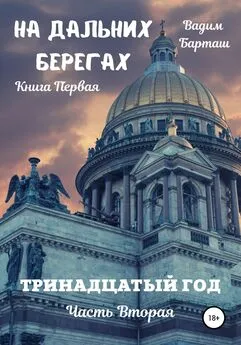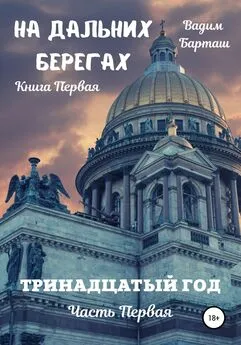С. Прожогина - О берегах отчизны дальней...
- Название:О берегах отчизны дальней...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-05-002380-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Прожогина - О берегах отчизны дальней... краткое содержание
Предисловие к избранным сочинениям алжирского писателя Мухаммеда Диба.
О берегах отчизны дальней... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Пляска смерти» (1968) по-своему подытожила опыт алжирской революции: шесть лет независимого существования бывшего «заморского департамента» уже давали некоторую пищу для размышлений. И чем горше для Диба этот опыт, чем несогласнее он с новым обликом Алжира, чем резче видятся ему внутренние противоречия, которые «внезапно» обозначились (и о которых он предупреждал задолго, еще в своих публицистических эссе), чем критичнее становится его взгляд на ее реальные проблемы, тем ценнее для читателя его размышления. Ибо в них звучит печальная правда, которую необходимо знать об Алжире…
«Пляска смерти» как бы вобрала в себя и прошлую эпическую полноту трилогии «Алжир», и метафорическую глубину «Кто помнит о море», и символическую интроспекцию «Бега по дикому брегу», и лиризм поэтического цикла «Тень-хранительница», исполненного ностальгией по родной земле. Теперь жанровые варианты словно совместились воедино, а к ним добавилась еще и попытка драматургического наброска, органично «вплетенного» в сюжет как история-фарс «эрудита» Уасема и укрупненного впоследствии самим писателем до размеров самостоятельной пьесы «Тысячекратное ура в честь босячки!» (1980).
В оригинальном названии романа «Пляска короля» — некий эвфемизм; «король» здесь — Властелин ангелов, под которым подразумевается Ангел смерти Азраил (в мусульманской мифологии). Таким образом, «пляска короля» — это, собственно, «пляска смерти», один из центральных образов искусства прошлого, обращавшегося к порожденному религиозным сознанием разных народов апокалиптическому видению в поисках символического обозначения изображаемого. Кажется, что и у Диба в пляске «короля-смерти» — как в вихре — исчезает все: уходит из жизни главный герой — Родван, вспоминающий о цепи кончин близких ему людей; гибнут в горах партизаны, чью «жертву» трагически переживает другая героиня произведения — Арфия, сама, в общем, существо почти «нереальное», живущее в полном смысле слова на обочине Жизни, оставшаяся в сознании своих соотечественников тоже навечно «в горах»; загубленной, «убитой» людьми, не желающими видеть связь Прошлого с Будущим, оказывается и сама Идея, во имя которой отданы жизни муджахидов; да и уродливый плод Новой жизни — подразумеваемый «сын» Арфии, Бабанаг, — убит ею же самой… Свой последний «жест» совершает в трагикомическом фарсе и «эрудит» Уасем, испуская дух на свалке; и, наконец, рушится, распадается, весь изъеденный червями, древний Портал, главный символ романа — оплот, а точнее, фасад Старого мира… Но и другие смыслообразующие символы в поэтике романа способны обречь человека на смерть: всепоглощающий мрак бездны ночи, держащей в «плену» героя; ледяной посвист ветра, «вымораживающего душу» партизан в горах; само безмолвие гор, стальным капканом навсегда смыкающихся над Слимом и его товарищами; мертвенная белизна Луны, словно известью заливающая, умерщвляющая окрестный пейзаж. И наконец, сама метафора увиденной за древним Порталом современной жизни — куча отбросов, гниющего мусора, на которой и обрывается крик — последнее «послание» никому не нужного «мудреца»…
Но как ни близко, говоря о смерти, подкрадывается к «Пляске» ее синоним — «триумф», писатель не случайно избегает этого названия. Вчитаемся пристальнее в систему образов его романа: у всех у них, оказывается, есть и иное, противоположное, жизнепорождающее начало. Из мрака открывающейся взору Родвана бездны льется Свет. И он переливается в постоянно сменяющую ночь зарю, в жаркое июльское солнце, в «зной» зеленоокой Каримы (как бы затмившей своим лучистым «сиянием» восковую предсмертную бледность погибшей на руках Родвана француженки).
Ледяное неистовство ветра, словно сплавившегося воедино с обрушивающейся с неба картечью, было одновременно и источником движения. Это ветер не давал возможности остановиться, гнал вперед, и в голосе его звучали не только смертельная тоска, но и суровый призыв: «Выжить!»
И горы, сами Горы, осадившие Человека, ставшие «ловушкой», ведь они прежде всего — Хранители. Стражи самой Идеи, приют, ее оплот, ее символ. «Ночь» и «Горы» как в романе Диба, так и в алжирской истории нераздельны. Это «колониальная ночь» отправила народ сражаться в горы за свою независимость. Партизан «давили» сыпавшейся с неба картечью, выкуривали дымом пожаров, сжигали напалмом, но они оказались недосягаемыми, как вершины их Гор. И добиравшиеся до тайников, укрытий передавали дальше эстафету борьбы. Вот почему Арфия не может уйти с Пути. Вот почему для Диба, возродившего на страницах романа суровую героику Алжирской войны, Горы — это не только трагические ее будни, это и ее непобежденная Идея, это мысль о не бесполезности жертв миллионов таких, как Слим.
И муки совести Арфии, ушедшей вперед и оставившей не способного продолжать Путь товарища, — это извечный вопрос Человека: что выше — человеческая жизнь или Идея — Гора, за которую гибнут люди? Героиня Диба выбрала Гору. И если даже эта Гора родила такую «мышь», как Бабанаг, если даже идея Революции «растворилась» в сознании масс вместе с прошлым, к которому «нет возврата», то Горы все равно будут всегда напоминать о ней.
Во имя этой идеи отдал свою жизнь Слим, миллионы таких, как Слим, поэтому для Арфии и для всех живущих они не умерли, а превратились в «пепел» Истории и не могут быть вычеркнуты из памяти. Да и Родван, отдающийся во «власть» Азраила, в самом своем имени — «страж ворот рая» — как бы глубоко упрятал, уберег саму извечную мечту человека о счастье. Вот почему он так ясно осознает невозможность своего полного исчезновения в бездне: она, эта открывшаяся Родвану бездна, становится той бесконечностью, в которой его прежняя мечта не разобьется, она превратится в бескрайнюю рассыпь «отзвуков», «радужных искр» и озарит саму пучину мрака.
И к Арфии Рассвет просачивается даже сквозь стены ее Тюрьмы, и именно она, сама испытавшая и несущая в себе мрак Войны, шагнет навстречу Свету, который ворвется в двери Темницы…
…Так и вихрь, закружившийся в «Пляске смерти», не унес с собой то, что нельзя унести, — живущую в самой Земле, в ее недрах, в душе народа память о Свободе. Не стер с лица земли следы тех, кто за нее боролся, не уничтожил, не засыпал камнями тот чистый Путь, по которому, как по мосту, шли люди из Прошлого на встречу с Будущим.
А древний Портал должен был рухнуть. И Азраил — властелин, карающий все земное смертью, — должен был свершить свой страшный Пляс на его руинах.
От раздумий над смыслом войны и революции, от романа, подводящего итоги целой эпохи в алжирской истории, Диб переходит к осмыслению процессов, связанных с созиданием нового общества. Взору художника открывалась бурлящая, развивающаяся, полная противоречий реальность, где люди упрямо искали тот «единственно верный» путь, который способен был бы вывести страну из хаоса, руин, отсталости и нищеты. Писатель попытается отразить эти процессы в двух взаимодополняющих произведениях — «Бог в стране варваров» (1970) и «Повелитель охоты» (1973), как бы стягивая множество проблем к основным, противостоящим друг другу силам, обнажая таким образом главные противоборствующие тенденции, смысл духовных исканий нового Алжира, озабоченного настоящим и будущим своего народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: