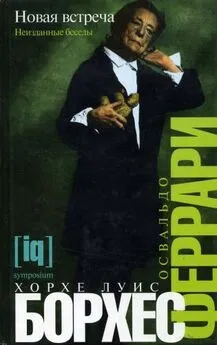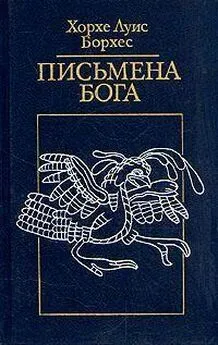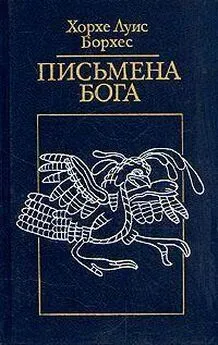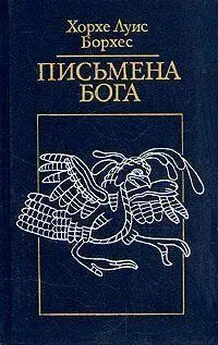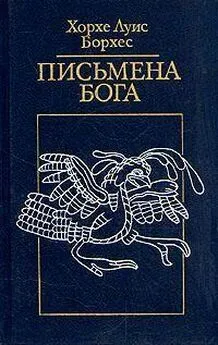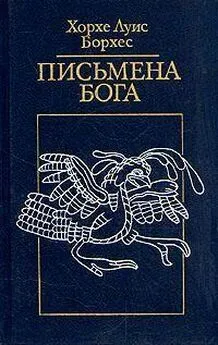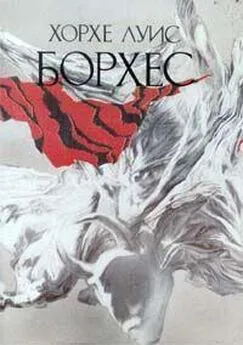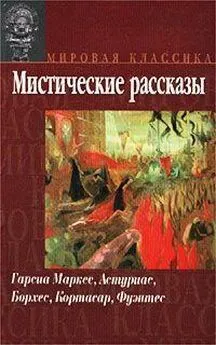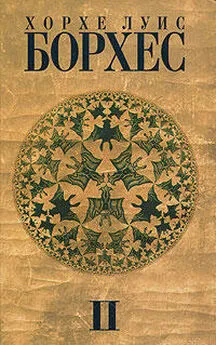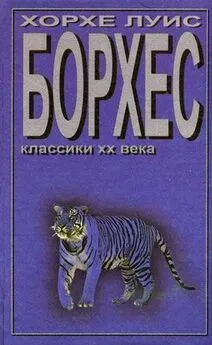Хорхе Борхес - Новая встреча. Неизданные беседы
- Название:Новая встреча. Неизданные беседы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Симпозиум
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89091-243-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хорхе Борхес - Новая встреча. Неизданные беседы краткое содержание
В беседах с Освальдо Феррари великий писатель, подтверждая свою блестящую эрудицию, предстает как непревзойденный мастер устного жанра.
Новая встреча. Неизданные беседы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да, это верно. Ваше мышление, ваше понимание истины и реальности — художническое; у вас свой взгляд на человеческую судьбу; в частности, вы считаете, что все в жизни происходит не случайно, а предопределено свыше.
Но вера в предопределение еще не означает, что кому-либо известен принцип работы сего механизма, да, именно механизма, безжалостного механизма. Если каждое настоящее мгновение определяется предшествующим ему, то это действительно некий механизм, не правда ли? Но это вовсе не значит, что кто-либо может знать о нем хоть что-нибудь и предугадать его работу. Это значит, что есть что-то управляющее нашими действиями помимо нашей воли или, возможно, что мы сами являемся просто орудием высшей воли. Разумеется, это только предположение, догадка, и доказать ее к тому же невозможно.
Да. Предположение, догадка — в отличие от незыблемой формулы того преподавателя, о котором вы рассказали.
Да, конечно же.
Как правило, вы говорите о космосе как о порядке и противопоставляете его хаосу.
Космос по-гречески и означает порядок, а хаос — это нечто противоположное порядку. Не помню, упоминал ли я о слове «косметика», оно происходит от слова «космос», то есть означает маленький порядок, маленький космос, который человек наносит на свое лицо. «Космос» и «косметика» — одного корня, и, например, я, который не использует косметику, пребываю в состоянии хаоса, не так ли? ( Оба смеются .) И мое лицо, вероятно, хаотично. ( Смеется .) Впрочем, наше лицо создается нашим внутренним миром.
Как хорошо сказано!
Мне вспомнилась фраза, которую приписывают Линкольну; у Линкольна не было секретаря, ему принесли фотографии кандидатов, он посмотрел на фотографию одного из них и сказал: нет, этот не подойдет. Кто-то из присутствующих заметил: но ведь этот господин не отвечает за свое лицо. И Линкольн ответил: каждый человек, если ему уже за тридцать, отвечает за свое лицо; он высказал ту же мысль, но только другими словами. И когда говорят: «Лицо — зеркало души», — тоже повторяют ту же самую мысль, но только, в данном случае, она выражена менее впечатляюще, чем сказал Линкольн: «Каждый человек отвечает за свое лицо».
Об этом же говорили древние греки, говорил и Леонардо да Винчи.
Да, верно.
Вы нередко говорите о том, что в наше время люди почти утратили чувство сопричастности к высшему порядку, к космосу, и что наше отношение к жизни приблизительно таково: хоть как-нибудь да прожить.
Результат виден невооруженным глазом, для меня в данном случае нет никаких сомнений. Сейчас мы приближаемся уже к концу столетия, и складывается впечатление, что наш век по сравнению с девятнадцатым — жалок. И вероятно, девятнадцатый век был жалким по сравнению с восемнадцатым. Конечно, деление времени на столетия — не более чем условность, любое столетие надлежит, конечно же, судить наступающим столетием, приход которого подготовлен предыдущим, не так ли? Тогда самым сильным доводом против девятнадцатого века будет то, что он породил век двадцатый, а против восемнадцатого — то, что породил девятнадцатый. Хотя деление на века — не более чем условность, но, вероятно, разум человеческий нуждается в подобной условности.
В делении времени на столетия.
Да; вероятно, такое деление нам необходимо; к тому же оно позволяет нам обобщать; хотя мы и знаем, что любые, любые обобщающие утверждения — лживы. Хотя это, в свою очередь, — обобщение.
Недавно вы говорили о том, что в наше время, к сожалению, утрачено христианское чувство, осознание добра и зла.
Но это чувство — не только христианское, осознание добра и зла было свойственно людям и до христианства; этика…
Об этике часто говорит Платон.
Да; этика входила в круг интересов Аристотеля, а он, разумеется, не мог предвидеть христианства. Я полагаю, мы все, делая что-либо, инстинктивно понимаем, делаем ли добро или зло, и осознаем, что последствия совершенного нами могут быть благотворными либо вредоносными.
Но все-таки может ли быть этика без осознания добра и зла? Может ли этика основываться, к примеру, только на понимании законности содеянного?
Нет, ни в коем случае; если вы читали «Билли Бадда» Мелвилла, — а это великолепная повесть, поверьте, — то знаете, что существует противоречие между справедливостью и законом. Закон — это попытка кодифицировать справедливость, но в большинстве случаев — неудачная попытка; что, впрочем, и естественно.
Как я понимаю, этика для вас обладает высшей ценностью; для вас более важно быть человеком этичным, чем верующим.
Быть верующим — и означает быть этичным; мифология может помогать, а может наносить вред этике. Во втором случае я предпочитаю перечеркнуть мифологию.
(Смеется.) Понятно…
В Японии, к примеру, император и все его подданные — синтоисты либо буддисты. А вместе с тем две эти веры — совершенно различные: буддизм — это философия, а синтоизм — синтоистская вера в судьбу; если не ошибаюсь, имеется восемь миллионов богов, они — повсюду; как писал Вергилий, «Omnia sunt plena Jovis» («Во всем живет Юпитер»). Однажды иезуиты и протестанты, — а они были, кажется, евангелистами или методистами, — решили выяснить, сколько людей верует в истинного Бога. И оказалось, что все веруют в истинного Бога. Иначе говоря, буддисты, синтоисты, католики, протестанты, мормоны, в конце концов, — все сознают, что все религии — грани, отражения одной и той же истины, различные грани этики. Ясно, что в каждом случае этика понимается по-разному, она не одинакова для всех.
Перенесение вопросов этики на религию или включение религии в этику, — это, как мне кажется, Борхес, характерно именно для вас, свойственно вам, как никому другому. Однажды вы сказали, что в диалоге для вас самое важное — это попытка выяснения истины.
Да. Еще, к сожалению, у Платона встречается мысль о том, что в споре кто-либо один одерживает верх; это — заблуждение; если мы пытаемся выяснить истину, не суть как важно оказаться победителем в логических рассуждениях. Самое важное — приблизиться к истине, к пониманию истины. Но в большинстве случаев диалоги представляют собой не что иное, как полемику, не так ли? Иначе говоря, кто-то должен проиграть, а кто-то выиграть спор, но ведь подобный подход затрудняет постижение истины, делает ее выяснение невозможным. Быть правым — это не более чем тщета человеческая; во имя чего надо быть правым? Самое важное — приблизиться к истине, и если кто-то может тебе помочь в этом — тем лучше.
Озабоченность поисками истины более свойственна философам, чем художникам. Художников, как правило, заботит воссоздание реальности, или то, что Платон называл «реальной реальностью».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: