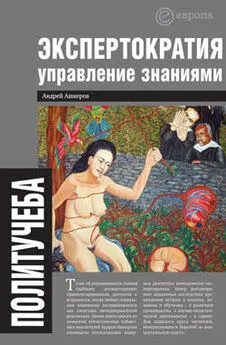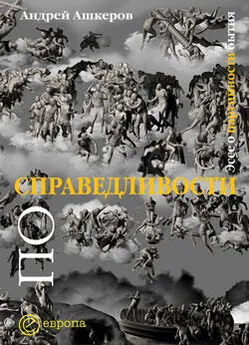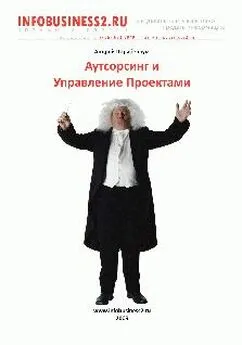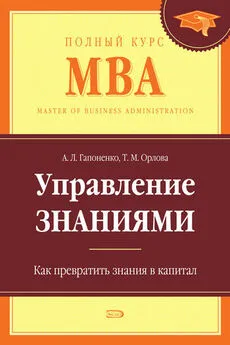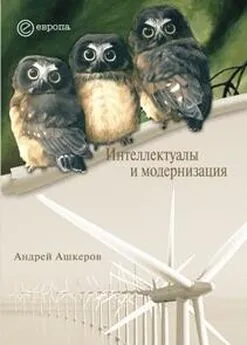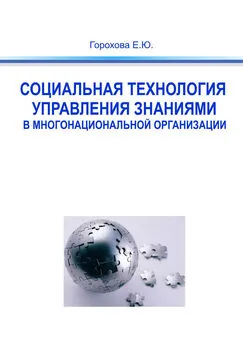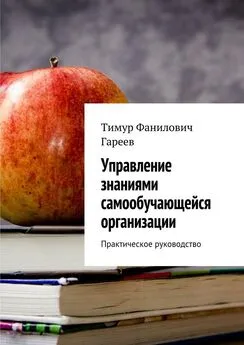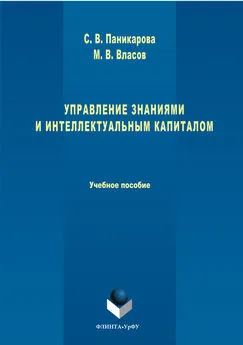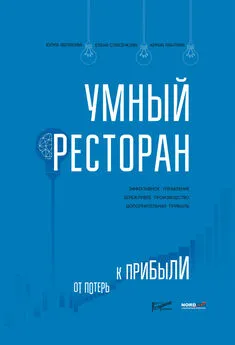Андрей Ашкеров - Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма
- Название:Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-170-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ашкеров - Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма краткое содержание
Тезис об управляемости знаний снабжает экспертократию привилегированным доступом к реальности, когда любые социальные изменения воспринимаются как следствия менеджериальной революции. Новая книга одного из немногих отечественных публичных мыслителей Андрея Ашкерова посвящена исследованию издержек диктатуры менеджмента экспертократии. Автор рассматривает подлинные последствия превращения истины в капитал, познания и обучения – в рыночное производство, а научно-педагогической деятельности – в сервис. Для широкого круга читателей, интересующихся борьбой за концептуальную власть.
Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разница путинской и медведевской эпох состоит в том, что сегодня никакая технократия не может держаться на принципах «машинного» политического производства, то есть на представлении об автоматически самоорганизующихся институциональных системах. Образцовой «машиной» такого рода в эпоху собственного правления был сам Путин. Его относительный уход в тень символизировал срастание технократии с биополитикой, когда наиболее эффективные способы управления строятся на признании управляемого объекта не механизмом (пусть даже и очень сложным), а живущим по своим законам и ритмам «телом». Менеджмент, основанный на инставрационной методологии взращивания органических связей, оказывается не в пример успешнее менеджмента, наследующего ленинско-сталинскую идеологию людей-винтиков, живущих в обществах-фабриках. И дело совсем не в том, что такой менеджмент «гуманнее», а в том, что он не в пример более продуктивен. Пресловутая гуманизация управленческих технологий в огромное количество раз повышает отдачу от политического производства.
Роль образования в осуществлении такой гуманизации невозможно переоценить. Функциональность бюрократии измеряется отныне не ее общеуправленческой компетенцией в целом, а суммой отраслевых управленческих навыков.
Современный менеджмент основан на эмерджентном, а не кумулятивном подходе к управлению. Данный подход строится не на совпадающем со статусным ростом приращении управленческого опыта, а на превращении самого управления в опыт. [34]Успех административной деятельности измеряется сегодня умением действовать в сложных ситуациях, готовностью к риску и игровой активности, пониманием неизбежной непредсказуемости социальных процессов. Владение антикризисными методиками администрирования превращается в повседневный навык управленца, что имеет, конечно, и свои издержки, поскольку с соответствующими мерками начинают подходить к решению любой возникающей проблемы.
В образовании на смену советской идеологии политехнического образования пришла идеология отраслевой образовательной технократии. Ее принципиальной ставкой является представление о том, что ценность образования находится в зоне ведения не универсальной, а корпоративной этики, которая выступает законной наследницей первой в эпоху неотехнократического реванша. Пафос современной корпоративной этики основан на виртуозной подмене универсальных ценностей общезначимыми в рамках корпорации интересами. [35]Роль образования в процессе трансформации интересов в ценности еще предстоит оценить, хотя уже сейчас ясно, что именно усвоение корпоративных интересов в ходе реализации отраслевого подхода к обучению есть необходимое условие описанной подмены.
Для того чтобы эта подмена осуществилась, необходимо найти общий знаменатель для интересов и ценностей, форму их максимально нейтрального совместного обозначения. Ценности должны стать достаточно нейтральными, интересы – вполне приемлемыми. Претерпев подобную трансформацию, они оказываются слитыми воедино в рамках одного общего понятия: «информация».
Тренд «информационная экономика» идеально подходит для создания такой амальгамы. Это и ориентир, к которому следует стремиться, и способ «оптимальной» организации деятельности, и новый символ Современности, и стратегия осуществления изменений. В то же время это еще и институциональный феномен, который позволяет увязать образование и преобразования.
Помимо этого информационная экономика предполагает еще и победу меркантилизма в политике, который становится главенствующей социальной технологией и одновременно основным направлением моральной рефлексии. [36]Восприятие и опыт сопрягаются уже не в психодраме индивидуального существования, а в политико-производственной драме социализации комплексов и капитализации способностей.
Ее героями выступают вовсе не частные лица, вдохновленные целями и устремлениями, а коллективные тела, потребляющие услуги. На макроуровне они выглядят как живые организмы, дальние родственники гоббсова Левиафана, на микроуровне – это абсолютно механистические образования, антропоморфные киборги со сменными пакетами социокультурного софта и биосом «рационального выбора».
Именно эти технологизированные существа без сущности, с легкопротезируемой мировоззренческой оснасткой, выступают объектами биополитики: чтобы существовать, нужно быть чем-то меньшим, чем ты есть. За коллективные тела в целом отвечает уже не биополитика, а технополитика, которая обеспечивает сохранность социальных организмов методом гуманной замены институциональных органов и апгрейда трансгуманистических матриц существования: чтобы существовать, нужно быть чем-то большим, чем ты есть. Технополитика стала стратегией Путина, биополитика на наших глазах становится стратегией Медведева. Залогом этого выступает второе пришествие либерализма, вновь начинающего занимать чуть ли не главенствующее место на авансцене отечественной мысли.
Вместо заключения
Новый футуризм
Какие бы перемены ни ожидали определенное общество, лучшим из перспектив информационной экономики покажется то будущее, которое будет соответствовать господствующим сегодня техникам оформления (или, буквально, ин-формирования) бытия.
Ин-формирование бытия подчиняет его эстезису дизайна, информация превращает мир в сеть. В сетевой феномен преобразуется и человеческая идентичность. Дизайн оборачивается Dasein, здесь-бытием, которое не просто воплощает человеческое присутствие, но делает его производной сетевого доступа к сообществу прошлых, настоящих и будущих поколений. Из перспективы вхождения в сеть любая индивидуальная неповторимость – не просто разменная монета, но побочный продукт стереотипизации людей, осуществляемой в рамках политического производства.
Роль образования в этих процессах огромна. Оно помещает происходящие изменения в горизонт неопределенно далекого будущего. Горизонт этого будущего и есть то, что обычно называется идеалом. Рассмотренная из перспективы общественного идеала проблематика образования трансформируется в проблематику менеджмента познавательных процессов. Менеджмент познавательных процессов распространяется на: управление сферой воображаемого – мы вступаем в эпоху новых мифологий, которые порождаются не недостатком знаний, как в архаическую эпоху, а их переизбытком. Хроническое перепроизводство информационных ресурсов создает условия для создания более разнообразных мифологических систем, которые могут полностью не принимать во внимание существование друг друга. В отличие от времен архаики они соотносятся не с конкретной историей, которой придается статус универсального события, а с событиями, которым благодаря мифу пытаются придать исторический смысл. Однако с течением времени эти мифологические системы оказываются все менее долговечными, они просто-напросто легче забываются. Классическими современными мифами оказываются наиболее политизированные биографии, теории, порожденные предельно острыми формами борьбы за истину, самые парадоксальные и противоречивые тренды; управление способностью суждения – менеджмент воображаемого непосредственно соотносится с управлением вкусами и «способностью суждения» (в кантовском смысле). Собственно именно к способности суждения и сводится политика не только на ее повседневно-массовом уровне, но и на уровне принятия основополагающих решений. Превращаясь в предмет вкусовых оценок, в область вкусов, о которых не стыдно и поспорить, политика делается рефлексивной, даже гиперрефлексивной процедурой (в том числе и потому, что «все о ней думают»). Проблема только в том, что, подобно эстетическому мировосприятию, искушаемому проблематикой возвышенного, эта гиперрефлексивность строится на принципиальной рассогласованности понятий и представлений. [37]Искушение возвышенным в области эстетического возвещает возможность индивидуации, в области политики оно оборачивается социальным атомизмом. Однако это еще не все: атомизация оборачивается деконструкцией понятийного мышления, которое признается тщетным на любом этапе своего применения. Подобный эффект заставляет задуматься о возможности и содержании политической компетенции. [38]Своеобразие политики в эпистемическом аспекте состоит в том, что компетенция в ней связана с организацией пространства принципов и методик, повышение эффективности которых сопутствует игре на понижение ставок знания о политике. В пространстве политического действия работает принцип: «Чем больше думаешь, тем меньше понимаешь», что делает данное пространство привилегированным местом для практики без глубокомысленности и лавирования как формы практического сознания. Современный кризис понятийной рефлексии берет начало в политической процедуре придания смысла хронически воспроизводимому смыслодефициту. Сегодня этот кризис сказывается не только на состоянии умов, но и на состоянии нравов, что является отличительной особенностью эпохи пост-Просвещения. [39]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: