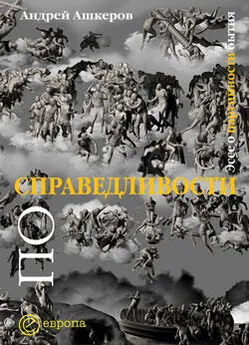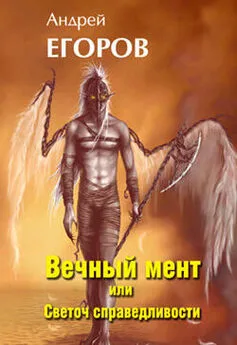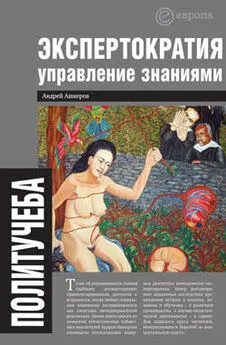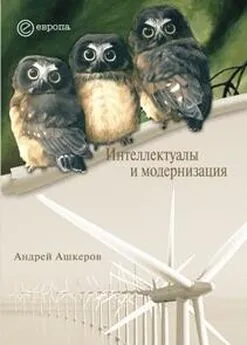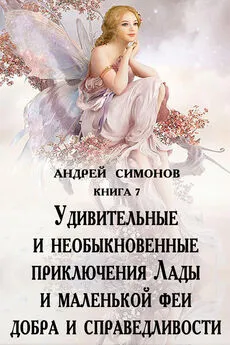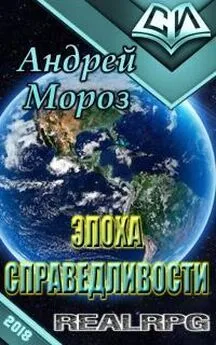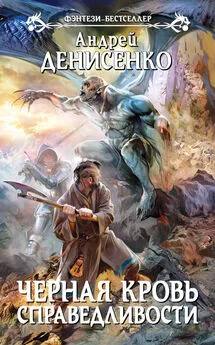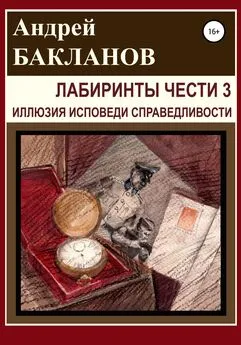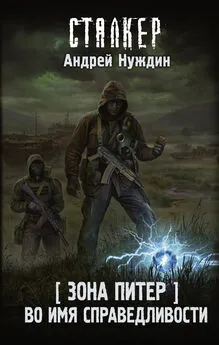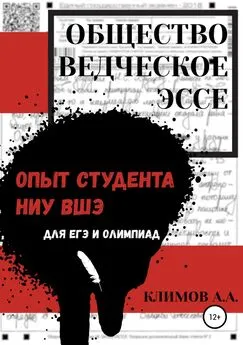Андрей Ашкеров - По справедливости: эссе о партийности бытия
- Название:По справедливости: эссе о партийности бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-156-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ашкеров - По справедливости: эссе о партийности бытия краткое содержание
Требование делать что-то «по справедливости» сопровождает нас повсюду: оно возбуждает мысль, оправдывает месть, вовлекает в торг, обосновывает власть, выражает картину мира. При этом не существует, наверное, иной обиходной категории, столь мало ставящейся под вопрос. Известный философ, самый молодой доктор философских наук в России Андрей Ашкеров, размышляет о феномене справедливости, выводя ее из тени права, в которой справедливость находится на протяжении многих столетий. Загадка справедливости состоит в том, что она не только берет правовой порядок под свою юрисдикцию, но и лишает его наиболее незыблемых оснований. Именно поэтому в мире, живущем по принципу: «Существует только то, что имеет право на существование», справедливость вынуждена отстаивать себя вопреки всем сложившимся жизненным укладам.
По справедливости: эссе о партийности бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же – в отличие о Бога – человек неизменно соотносится с неким «что». Чем бы человек ни занимался, он вечный пленник «чтойности». Иными словами, человеческое существо никогда не ограничивается локальным производством: производство одного ведет за собой производство другого, производство другого оборачивается производством третьего и так до бесконечности. В итоге открывается лейтмотив человеческой истории, сводящийся к тому, чтобы научиться производить все из всего.
Человеческое производство всего из всего контрастирует с божественным производством всего из ничего.
Фактически эти два вида производства обозначают уже два домена справедливости: божественную и человеческую. Божественная справедливость распространяется на людей ровно в той степени, в какой люди ограничиваются производством чего-то из чего-то. Но они выходят из-под юрисдикции божественной справедливости, когда организуют свою историю как всеобъемлющий процесс производства всего из всего. Подобное производство всего из всего и есть штурм неба, на который решается человек.
Однако в этом штурме нет ничего героического, поскольку он предопределен самим статусом человека как исторического существа. Человек определяется не по тому, какими потребностями он обладает. Мало что добавляет к его определению способность к труду или речи. Даже при наличии духовных (социетальных) потребностей человек может оставаться животным – трудящимся и одновременно говорящим животным. Духовное самовыражение как потребность, труд и речь как способы ее удовлетворения еще автоматически не вырывают человека из животного царства. Человек перестает быть животным лишь в том случае, если хотя бы в малой степени начинает себя творить.
При этом весь фокус в том, что творить себя человек начинает, лишь посягая на то, чтобы создавать себя с нуля, то есть «из ничего». В минимальном притязании человеческого существа на авторство по отношению к собственной жизни уже содержится вызов, брошенный божественным сущностям (обладающим патентом на монопольное производство всего из ничего). Иными словами, самоопределение человека действительно вершится в производстве, которое оказывается одновременно и производством вещей (фактов), и производством человеком самого себя. [16]
Человек становится человеком потому, что в отличие от животных производит самого себя, превращая в ничто все обстоятельства, условия и условности, с которыми было связано его возникновение.
Человек – историческое существо, определение которого соотносится с возможностью сводить к нулю воздействие природы или среды. Чем бы ни был детерминирован человек, что бы ни казалось определяющей причиной его поступков, он является человеком лишь в той степени, в какой его деятельность отменяет собой причинно-следственные связи. Закономерным итогом подобной постановки вопроса становится представление о том, что человек производит не только самого себя, но и богов. Это предположение возникает задолго до просветителей, Карла Маркса и Фридриха Ницше. Возможность такого предположения содержится уже в широко известном высказывании софиста Протагора [17]о том, что человек является мерой всех вещей – как существующих, так и не существующих.
Из эпифеномена, связанного с разграничением компетенций людей и богов, справедливость превращается в предмет ведения человеческого существа. Одновременно она становится мерилом человеческого в человеке.
Говоря иначе, справедливость выступает кодом, который объединяет в одно целое человеческое и нечеловеческое, создавая попутно и самого человека, выступающего инстанцией их целостности. Однако это означает неизбежную профанацию принципа разграничения божественной и человеческой власти.
Божественной оказывается власть, воспринятая как привилегия. Как деятельность рассматривается при этом уже само присутствие. При этом наивысшим воплощением деятельного существования оказывается созерцание. Созерцающее присутствие выступает, таким образом, формулой того, что впоследствии будет названо vita conteplativa. С особой разновидностью созерцания будет связана сама возможность познания, исходной точкой и целью которого станет умозрение.
Лейтмотив умозрения – в умении видеть общие начала, выделять общее в противовес частному и обособленному. Апеллирующий к умозрению Платон не просто делает его наивысшим видом познания, но и утверждает в качестве основания и проявления права на господство. Господствующим выступает тот, кто видит целое в разрозненных частях. Политик подобен ткачу: он сплетает, подобно нитям, целостную социальную ткань, выявляет общее в разрозненных профессиональных занятиях. При этом любые разновидности физических усилий, сама активность как их квинтэссенция предстают неполноценными проявлениями деятельности. Более того, сама активная деятельность предстает не только как нечто избыточное, но как следствие и симптом зависимости.
Проще говоря, разграничение божественной и человеческой власти трансформируется в противопоставление умственного и физического труда, трудовых усилий и праздного времяпрепровождения. Своего предела подобное противопоставление достигает уже у Аристотеля. Стагирит дополняет свое разграничение работы мыслителя, владеющего логосом (logon ekhei), и ручной работы (keirotekhnes) неграмотного работника проповедью необходимости воспринимать раба как простое орудие, с которым надлежит обращаться как с любым другим вспомогательным средством. Иными словами, невозможность вести созерцательный образ жизни лишает человека статуса человеческого существа, а обделенность досугом помещает любого в ситуацию риска, связанного с превращением в рабочий инструмент в чьих-то руках. Напротив, созерцательная жизнь сама по себе нравственна, это та форма нравственной добродетели, которая называется Аристотелем «дианоэтической».
Итак, с античных времен онтологическим принципом справедливости выступает мера, однако с самого начала обнаруживается, что онтология ее находит опору и основание в практике неравенства. Эта практика возвещает нам об эскалации политического: ищущий общности мир оказывается разделен на своих и чужих, стремящаяся к миру общность делает ставку на войну и ведет ее любыми средствами.
С этой точки зрения, Платон обращает к нам философию меры ради самой меры, однако оказывается, что она выступает эквивалентом иерархии: существует иерархия – значит, существует и соразмерность. Аристотель, в свою очередь, идет еще дальше: мера для него представляет собой выражение законности неравенства. Как формулирует это сам Стагирит, справедливость выступает равенством для равных и неравенством для неравных. [18]При этом если для Платона принцип иерархии возводится, в конечном счете, к умению субъекта господствовать над самим собой, то Аристотель соотносит свою идею неравенства с господством над другими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: