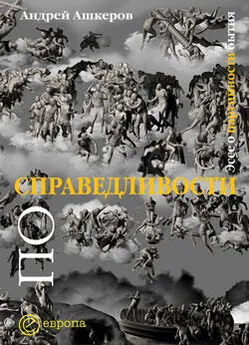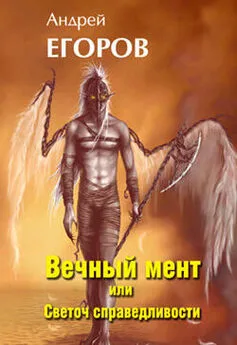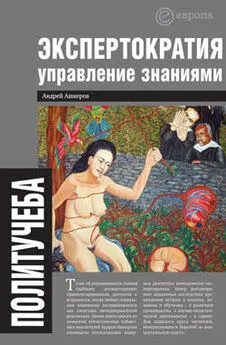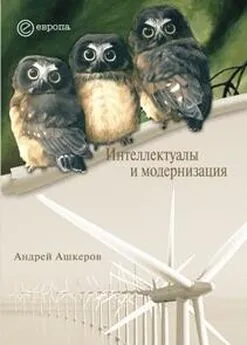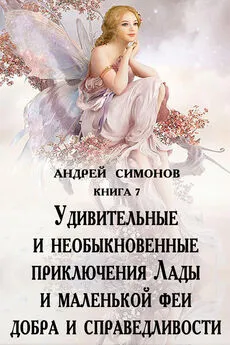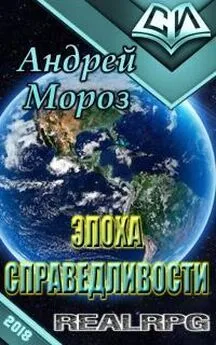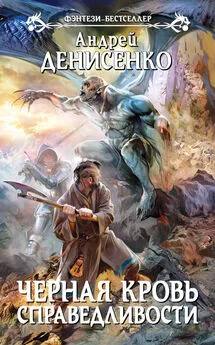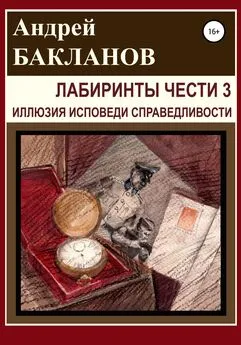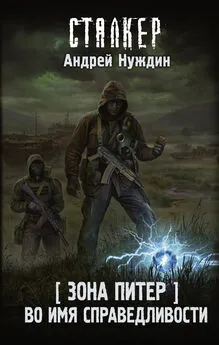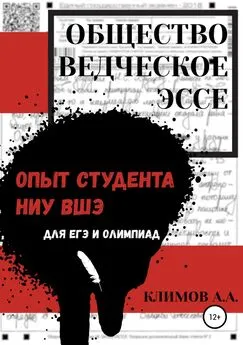Андрей Ашкеров - По справедливости: эссе о партийности бытия
- Название:По справедливости: эссе о партийности бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-156-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ашкеров - По справедливости: эссе о партийности бытия краткое содержание
Требование делать что-то «по справедливости» сопровождает нас повсюду: оно возбуждает мысль, оправдывает месть, вовлекает в торг, обосновывает власть, выражает картину мира. При этом не существует, наверное, иной обиходной категории, столь мало ставящейся под вопрос. Известный философ, самый молодой доктор философских наук в России Андрей Ашкеров, размышляет о феномене справедливости, выводя ее из тени права, в которой справедливость находится на протяжении многих столетий. Загадка справедливости состоит в том, что она не только берет правовой порядок под свою юрисдикцию, но и лишает его наиболее незыблемых оснований. Именно поэтому в мире, живущем по принципу: «Существует только то, что имеет право на существование», справедливость вынуждена отстаивать себя вопреки всем сложившимся жизненным укладам.
По справедливости: эссе о партийности бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это демократизированное бытие, в котором любой шар попадает в лузу, а каждый желающий реализует право на уорхолловские пятнадцать минут славы, и впрямь может считаться самым справедливым. Единственная проблема, которая связана с этим бытием, заключается в том, что оно напоминает забытую Богом дыру. Если какие-то боги и пекутся о его устроении, то это боги, которые явно не страдают от дефицита безучастности, зато в полной мере заражают этим дефицитом людей. Подобная практика, впрочем, не может быть предметом моральной оценки.
Проблема демократизированного бытия не моральная, а эпистемологическая – мир, над которым парят безучастные боги, никогда нельзя с достоверностью признать существующим. Его существование всегда предмет веры. Это, впрочем, нисколько не мешает ему воплощать апофеоз завещанного консерваторами соединения свободы и братства (которое олицетворяют собой уже не столько люди, сколько «вещи», точнее, овеществленные явления и существа).
Наконец, третье следствие фукианской антиантропологии предполагает не демократизацию бытия или стерилизацию жизни, а эскалацию событийности. Любое человеческое бытие суть событие. Именно со-бытие не только возвещает человеку справедливость, но и служит ее выражением. При этом оно не сводится ни к конкретным связям, ни к коммуникации, ни к взаимодействию. Напротив, со-бытие случается тогда, когда всеми привходящими обстоятельствами, претендующими на статус порождающих его причин, оказывается возможным пренебречь. Справедливость проявляется в том, что каждая человеческая жизнь представляет собой со-бытие, однако справедливое устройство мира не равнозначно равенству людей перед таинством их рождения. Напротив, в со-бытийности любого индивидуального существования нет ничего, что отсылало бы нас к этой тайне. Тайна жизни состоит в том, что она не скрывает в себе никаких тайн: само бытие и есть устранение тайны.
Иными словами, человек представляет собой существо, событие жизни которого сопряжено с изгнанием, выживанием тайны. Преодолевая самим фактом своего существования все обстоятельства собственного появления на свет, человек обращает тайну индивидуального рождения в ничто. Создавая из «чего-то» (то есть из причин, предпосылок, условий) такое «ничто», человек берет на себя миссию демиурга, создающего нечто ex nihil. Похитив это демиургическое искусство у Бога-творца, люди направляют его на себя: каждый превращается в человека, который делает себя сам (self-made-man). Это и есть воплощение со-бытийной справедливости. Ее стихией выступает совместное существование, названное греками синойкизмом. В практике синой-кизма устраняются границы между социальным и экзистенциальным. Экзистенциальное самовыражение оказывается при этом тождественным обладанию глубинной структурой сопричастности с «иным»: будь то «родственник», «друг», «конкурент», «сосед», «чужой», «враг» или в конечном счете отраженный в них «ты сам». Речь идет в данном случае не о множественной личности, а, если можно так выразиться, о личности самого множества. Онтология социальных множеств выступает обратной стороной социологии личностного бытия.
Пренебрегая всеми обстоятельствами, которые могут играть для него роль причин, человеческое существо проходит путь, который был указан опять-таки еще Иммануилом Кантом. Это путь из царства необходимости в царство свободы, от существования в качестве физического объекта (тела) к существованию в качестве духовного объекта (души). Сoбытийная справедливость выступает одновременно способом и результатом освобождения от каузальных зависимостей, которое и оказывается освобождением par excellence. Подобное понимание свободы делает ее метафорой преодоления сил гравитации. Эта интерпретация предполагает некоторую обремененность натурфилософией, прежде всего натурфилософским пониманием «воздушности» души как пневмы.
Одновременно стремление освободиться от «природы» заведомо предполагает отношение к ней как к препятствию или обузе. Понятая подобным образом «природа» концентрирует в себе всевозможные путы, она оказывается главным препятствием свободного существования. Несмотря на все различия, этот мотив прослеживается и у Иммануила Канта, и у Георга Гегеля, и у Карла Маркса. Характерен он и для современной «левой» философии, в которой вызов окружающей действительности выступает формулой обретения прижизненного бессмертия, которое, в свою очередь, выступает достоянием, справедливо распределенным между всеми. Вот как, в частности, пишет об этом Ален Бадью: «Существом бессмертным – вот кем показал себя Человек в тягчайших ситуациях, в какие его только можно поставить, исключительным образом обособляясь в многообразном и хищном потоке жизни… То, что в конце концов все мы умрем и от нас не останется ничего, кроме праха, не может поколебать бессмертие Человека в тот момент, когда он утверждает, что готов идти наперекор воле-быть-животным, к которой его приводят обстоятельства. И каждый человек… способен, когда ничто этого не предвещает, оказаться таким бессмертным; в обстоятельствах грандиозных или заурядных, ради важнейшей или же второстепенной истины – роли не играет. В любом случае субъективация бессмертна и создает Человека. Без нее есть лишь биологический вид – „двуногое без перьев“, очарование которого не вполне очевидно» [Бадью. Этика. 2006. С. 27–28].
«Двуногое без перьев» действительно пригодно скорее в суп. Однако это нисколько не решает проблемы. Проблема со-бытийной справедливости состоит в том, что так никогда до конца и не ясно, что же все-таки получается в результате самосозидающей деятельности человека – может, божество, а может, и нечто прямо противоположное. Но это не суть. Суть еще хуже: идя наперекор животной воле, человек приравнивает самосозидание к самообожествлению. Божеством, а точнее сказать, своеобразным идолом оказывается любой социальный тип: не важно, рыцарь или лавочник, программист или девственница, палач или тинейджер. В этом заключается особая справедливость со-бытия, экзистенциальный лабиринт которого чем-то неуловимо напоминает коммуналку. Здесь все со-существуют друг с другом, но каждый для другого оказывается и продолжением его собственного бытия, и наиболее прискорбным обстоятельством, от которого во что бы то ни стало хочется отделаться. В действительности люди не боги – они больше, чем боги, ибо в буквальном смысле становятся богами вопреки всему. В этом тоже состоит особенная человеческая справедливость. Она и вправду выступает справедливостью со-бытия, только это со-бытие уравнивает в правах банальность исполнения социальных ролей и героику противостояния условиям и среде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: