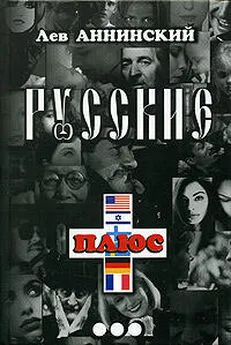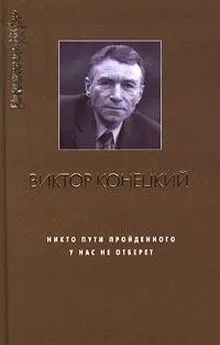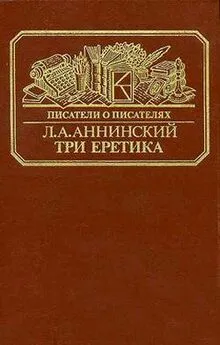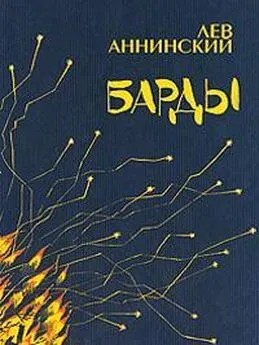Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
- Название:Ядро ореха. Распад ядра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра краткое содержание
В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.
Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу. К началу 70-х годов стало ясно, что «поколение» распалось, и стимул исчез.
Тогда я стал писать статьи совершенно другого тона, пытаясь понять, что с нами будет. Они вошли в третий раздел: «Расщепление».
«Разлет» — это уже когда стало ясно, что с нами происходит.
«Полюса» — наиболее ярко и последовательно воплотившиеся писательские судьбы в эпоху подступающего распада Целого.
«Траектории» — это статьи, где прослеживаются расходящиеся пути некогда единого писательского поколения.
И, наконец, «Следы» — скорее в том смысле, в каком это слово понимают физики-экспериментаторы — «теноры ХХ века», герои моей молодости, чем в смысле охотничьем, — статьи, написанные по долгим следам героев «Ядра ореха»; создавались они в то время, когда в глазах поколений, пришедших следом, «шестидесятники» стали уже почти посмешищем.
Ядро ореха. Распад ядра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ночью к слепому яркие, как гроза,
ночью к слепому приходят его глаза…
Четыре года назад такие строки показались бы в книжке Цыбина невероятными. В «Бессоннице века» (1963) они естественны. Война, которая выжгла глаза солдату, война, что в каждом из нас, «как мина, осталась», — война более не располагает поэта к молодецкому посвисту. «Я с тех пор не стал играть в войну», — признается Цыбин. Бессонница века, шесть миллиардов глаз, тревожно глядящих в душу, — под этим взглядом все приобретает истинные масштабы: и кулаки, и замесы, и заквасы. Настает переоценка. И уже песни Цыбина «не рвутся в мелочную драку, не норовят кулак достать, а падают, идя в атаку, чтоб завтра памятником стать». Рядом с такими стихами мужицкие соленые слова, еще прорывающиеся в «Бессонницу века», выглядят оставленной тут по недосмотру старой декорацией. Впрочем, в ту пору, когда Цыбин начинал, кондовые эти задники не были декорацией, они были жильем: при всей своей узости эта эстетика воплощала для Цыбина и его соратников правду их первоначального опыта, а значит, открывала им путь в поэзию.
Поэзия, однако, никогда не вкладывает себя в недвижимость, вся ценность поэзии — в живом движении; беря истоки от первоначального опыта, она или преодолевает в своем духовном развитии этот ранний опыт… или умирает как поэзия.
Любопытна эволюция Сергея Поликарпова, который шел от тех же, что и Цыбин, традиций — от Павла Васильева. «Ночка, ночка — что осень в соку, вызрела звездами по кулаку. Белогривый Каспий уронил на скаку золотую подкову — Баку». Мощная, дремлющая, застывшая в своей красе природа. Тяжкая сила красок. С. Поликарпов послушно направляет свои первые шаги на тропы, протоптанные Поперечным и Цыбиным. «Гусарским обхожденьем не блещу я, — предупреждает он. — Строптивость красотой не завлеку… Но мне кукушка, старая вещунья, накуковала счастье на веку…» Счастье он отправляется добывать с такими же нешутейными угрозами: «Иду к нему с повадкою медвежьей, как за кубышкой меда, напролом! Судьба меня надежно замесила…» и т. д. В этом грозном путешествии за счастьем есть уже что-то комическое: под первым же ветром падают эти бумажные доспехи, первый же дождик смывает устрашающую сажу с лица.
Страна незабываемая, детство!
Я никогда в ней, сказочной, не жил.
Житейскими заботами навьючен,
Ее прошел я наскоро и зло.
Поземкой переменчивой и жгучей
Следы мои на тропах замело…
Вы чувствуете— пейзажи Поликарпова не просто буйственно-сильны, в них есть что-то озорное, в этом озорстве улавливается глубокое внутреннее беспокойство. И весь поликарповский тысячелетний антураж, с дубовостью телег и снегом душ, с пирогами и ножиками под ребро, готов вот-вот рухнуть под напором какой-то новой тревоги. Поликарпов нетерпелив; в его драчливости мало самодовольства и много беспокойства; он не любуется сказочной золоченой панорамой жизни, он все время зло и колюче нападает на нее, рвет, ломает, расслаивает, рассверливает (это его словарь), и все с нервом, остро… И Россия у него — другая. С. Поликарпов тоже пишет о деревенской России. Но не совсем так, как его собратья. Это не та светлая грусть полей, «тракторный задумчивый дымок и грачиный громкий говорок», которыми тихо любовался В. Фирсов. И не чуткая красота колхозных садов, впитавших пот, слезы, кровь людей, растивших эти сады, воспетых Дм. Блынским. И не застывшая прелесть ночей и пышный круг опасностей рискового ловецкого дела, которые гордо описывал ан. Поперечный. И не дымки над Опочка-ми, не праздничное пение радио, не блины и оладьи, которыми поначалу встречает родина лирического героя В. Цыбина… Россия у Поликарпова — в движении; «нищета и дерзновение» сплетены в ней. И надорвавшаяся лошадь на горбе дороги — для поэта не просто деталь родной природы, а тема беспокойного раздумья. И та блаженная простота, которой недавно присягали его поэтические однополчане, вызывает у Поликарпова ядовитую фразу: «на твою былую простоватость не мешай блаженным уповать…» И то обильное красками упоение жизнью, которое вошло в стихи его непосредственных предшественников, для него неприемлемо: «Будь для других ты рогом изобилья, а для меня — источником тревог».
У лирического героя первой книги Поликарпова («Проталина», 1962) еще не устоялся характер, озорство у него резко сменяется задумчивостью, удаль — мгновенной грустью. В этой смене настроений (да и в смене поэтических интонаций — от Некрасова до Есенина и от П. Васильева до Багрицкого) сказывается неуравновешенность героя, с его томлением, с силой, ищущей выхода в озорстве, с неясными желаниями и жаждой немедленных действий. Кстати, именно от этой неясности, неуравновешенности, неустойчивости и возникает в стихах Поликарпова сделанность и литературщина. В неподдельном по чувству стихотворении о России (где поэт просит простить его, что, помня о своих заботах, он глух бывал к ее судьбе: «набила бельма позолота на завалившейся избе») вдруг возникает следующее видение: «Прости за то, что, разуверясь в цветущих дальних берегах(?), я падал на промозглый вереск (??), крученый мат зажав в зубах…» (!!) Крученый мат, муторность, охальные капроны и прочая атрибутика Москвы кабацкой — вот та заемная эстетика, которой С. Поликарпов маскирует проталины на своей лыжне.
Но внутри этого знакомого царства мы ощутили какой-то сдвиг… беспокойство… тревогу.
Там — человек.
Нет, дело не в теме. Не во внешней теме — сельской ли, городской или, скажем, изыскательской. И даже не в степени индустриальности пейзажа, поэтом излюбленного (алюминиевые дворцы, очевидно, прогрессивней изб под соломой, но поэзия не архитектурный журнал, она о другом, а потерять себя в царстве дюралевых конструкций, как мы вскоре увидим, даже легче).
Дело в правде. В единстве духовного и реального опыта. В способности найти себя, судьбу свою понять, собраться в личность, исходя именно из тех конкретных условий, которые поставило тебе время. Это коренное условие куда больше значит в поэзии, чем ландшафт; ландшафты обманчивы, и часто суть духовного поиска незаметно уводит поэтов от избранных учителей совсем к иным предтечам. Мы наблюдали старательную, нарочитую, подчеркнутую страсть к зримым картинам, к ощутимой и самодовлеющей пластике у так называемых поэтов земли. Строго говоря, деревня тут ни при чем; ни у Исаковского, ни у Твардовского, ни даже у Павла Васильева, ни у Рыленкова или Тряпкина, наконец, нет такой старательности: там все естественно. С другой стороны, буйный темперамент Поперечного, как мы убедились, диктует ему такие брабантские кружева, которые возникают не столько на базе простонародной непосредственности, сколько на базе застарелой интеллигентности. Буйная и запрограммированная пластика появляется как раз там, где внутри осталось умозрение, а для нас она— как сигнал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: