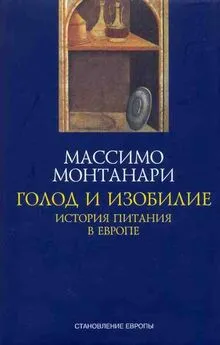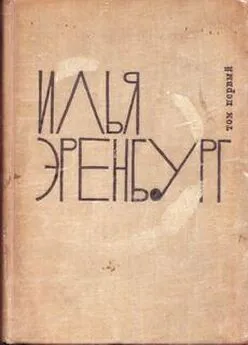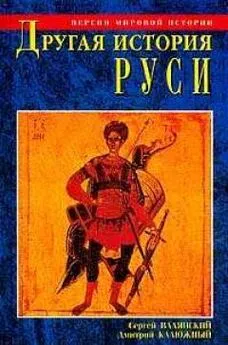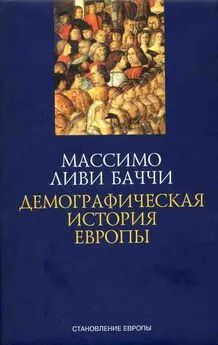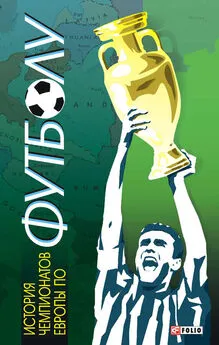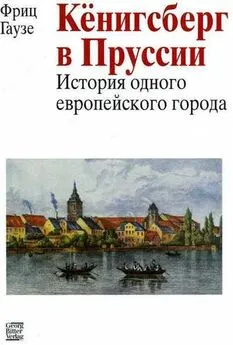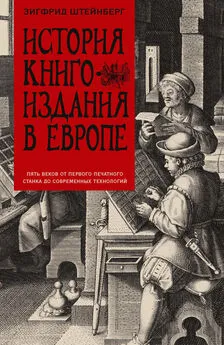Массимо Монтанари - Голод и изобилие. История питания в Европе
- Название:Голод и изобилие. История питания в Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Александрия
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903445-10-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Массимо Монтанари - Голод и изобилие. История питания в Европе краткое содержание
Массимо Монтанари (р. 1949) — историк-медиевист, специалист по истории питания, преподаватель Болонского университета и единственного в своем роде Университета гастрономических наук, в своей книге прослеживает эволюцию традиций питания в Европе с III по XX век. От хлеба и оливкового масла древних римлян и греков, куска мяса на костре варвара до современных консервов и фаст-фуда; от культа еды в мифах и эпосе, от тысячелетнего страха перед голодом к современной боязни переедания… История питания, настаивает М. Монтанари, — такая же составная часть истории цивилизации, как политическая или культурная история. Знакомясь с тем, что и как ели предки современных европейцев, читатель увидит, как в эволюции гастрономии отразился путь, пройденный за семнадцать веков европейским обществом, а также сможет по-новому взглянуть на собственные гастрономические привычки.
Голод и изобилие. История питания в Европе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такой же обработке начинает подвергаться пресноводная рыба. С XIII в. в нижнем течении Дуная отмечаются крупные рыбные хозяйства, производящие соленых и вяленых карпов — эту рыбу, по-видимому, несколько веков тому назад завезли, вместе с христианской верой, монахи из Южной Германии. Со временем такие хозяйства превращаются в важнейшие источники продовольствия: в Богемии, отмечает в XVI в. венецианский посол Джованни Микиель, «имеются садки, столь обильные рыбой, что в них состоит основное богатство страны». В горных районах вместо карпов разводили щук и форелей; ловили лососей, миног, осетров — последние особенно ценились, хотя бы в силу их величины. Славились осетры из По, Роны, Жиронды, а также из Черного и Каспийского морей. Этой рыбой, вяленой и соленой, торговали в основном венецианские и генуэзские купцы.
С конца XV в. в торговле рыбой и ее потреблении появился новый персонаж, постепенно оттеснивший осетров и прочих конкурентов, — треска, которую издавна ловили в Атлантическом океане, а теперь обнаружили в практически неисчерпаемых количествах на отмелях Террановы. За пользование этими водами разгорелась самая настоящая война — баски, французы, голландцы, англичане участвовали в ней, утверждая свое право на ловлю трески силой оружия и пушечными залпами. В конце концов только нации, имевшие сильный флот, а именно англичане и французы, сохранили право на эти отмели. Треска вяленая и соленая, штокфиш и лабардан, приобретаемые первая на вес, а вторая — поштучно, появились на столах у широких слоев населения, особенно в городах.
И все же потребление рыбы по-прежнему содержит целый ряд культурных коннотаций, которые мешают этому продукту завоевать подлинно «всеобщие» симпатии. Рыба, подвергшаяся обработке, вызывает ассоциации с бедностью и подчиненным положением. Свежая рыба говорит о богатстве, но о богатстве едва ли завидном, так как рыба не насыщает , это — «легкая» еда, именно поэтому постная, которой могут в полной мере наслаждаться лишь те, кому ежедневно не угрожает голод. В том и в другом смысле рыба с трудом отвоевывала себе место среди пищевых ценностей, к которым все общество относилось бы положительно: рыбу ели, и даже в больших количествах, но в культурном плане она все равно воспринималась как заменитель мяса.
Вопрос качества
Не случайно именно в XIV–XVI вв., в период социальной мобильности, коснувшейся даже некоторых слоев крестьянства, идеология правящих классов нацелена главным образом на то, чтобы обозначить стили жизни , приличествующие разным социальным группам: особенности питания (прежде всего), одежды, жилища подвергаются самой скрупулезной кодификации. Перед нами, заметим, не просто описания, а скорее предписания. Показательны в этом смысле так называемые «законы о роскоши», направленные на то, чтобы контролировать «частные» обычаи, «частное» потребление (но до какой степени банкет может быть назван частным делом?) и препятствовать чрезмерной показухе и расточительству, вроде тех, что проявлялись на свадебных торжествах и подчеркивали общественный статус и власть отдельных семей, компаний, корпораций. В основе этих законов лежали не столько причины морального порядка, сколько проблемы политического контроля над обществом: обеспечить сохранность существующих институтов, не допустить, чтобы определенные семейные или профессиональные группы стали пользоваться слишком большим влиянием, нарушая сложившееся равновесие. Не зря призывы к умеренности звучат особенно громко и часто в таких политических структурах, которые руководствуются — во всяком случае, на словах, в идеологических, программных целях — идеями равенства и демократии. Так, в Венецианской республике контроль над обычаями застолья был поручен особым «блюстителям торжеств». Декрет 1562 г., к примеру, гласил, что «при скоромном застолье нельзя подавать больше одной перемены жареного мяса и одной отварного и не более трех сортов мяса либо курятины»; дичь, «как летающая по воздуху, так и бегающая по земле», запрещалась. К постной трапезе разрешалось подать «два блюда жареных, два отварных, два овощных, не считая закусок, салатов, молочных продуктов и другого, что обычно подается к столу, один обычный сладкий пирог, марципаны, простые конфеты»; зато запрещались форели и осетры, озерные рыбы, паштеты, конфеты и сласти, сделанные из сахара: разрешалась только «ординарная» выпечка из городских пекарен. Само собой подразумевалось, что «нельзя подавать за одной трапезой мясо и рыбу». Декрет предоставлял официальным лицам право лично надзирать за работой поваров, осматривать кухни и столовые.
Такие законы обнаруживают стремление к единообразию, «нормализации» обычаев питания, «сплочению рядов» господствующего класса перед лицом интенсивных социальных преобразований, когда рядом со старой родовой знатью (или против нее) поднимается буржуазия. Поведение, «стиль» жизни — подходящая отправная точка для подобной операции. Но главное — отделить правящий класс от других социальных групп: мелкой городской буржуазии, «тощего народа», «вилланов». Вся литература этих веков (частные и общественные документы, повествовательные жанры, полемистика, трактаты по агрономии и другим наукам, руководства по медицине и диететике и т. д.) имеет одну особенность: если затрагивается тема еды и обычаев питания, то с первого взгляда совершенно ясно, к каким категориям, группам, социальным слоям относится то или иное описание или рассуждение.
Прежде всего утверждается, что следует питаться «в зависимости от свойств и качеств каждого человека»; с этим трудно не согласиться, если под «качествами» понимать комплекс физиологических характеристик и жизненных привычек каждого индивидуума. В точности на такое ключевое понятие опиралась греко-римская мысль, которая легла в основу европейской медицинской науки: порядок приема пищи должен определяться строго индивидуально, имея в виду возраст, пол, «гуморальную комплекцию», состояние здоровья, род деятельности; уже затем — климат, время года и прочие внешние условия, рассматриваемые с точки зрения того влияния, какое они могут оказать на данного конкретного индивидуума, исходя из его субъективных «качеств». Это — всеобъемлющая, очевидно элитарная программа питания, требующая постоянного внимания, времени, культуры: Гиппократ прекрасно это понимал, адресуя свои подробные предписания праздному, культурному меньшинству, а для «массы людей» ограничиваясь немногими указаниями общего характера. И все-таки человек без всяких прочих определений — разумеется, человек «свободный», но Гиппократ это и подразумевал, говоря о человеке tout court [26] вообще ( фр .).
, — был предметом подобных исследований. Впоследствии взгляды меняются, и «качество» человека рассматривается преимущественно с социальной точки зрения. Оно все теснее смыкается с общественным положением индивидуума, его местом в иерархии, богатством и (главным образом) властью. И речь идет — по крайней мере, в этом убежден, на это надеется правящий класс — о качестве неизменном, так сказать, имманентно присущем индивидууму: о статусе , определенном раз и навсегда, твердом и несокрушимом, как сам общественный строй.
Интервал:
Закладка: