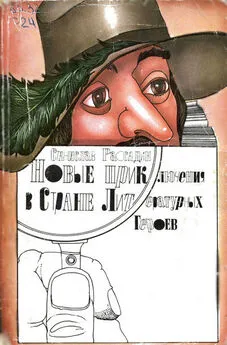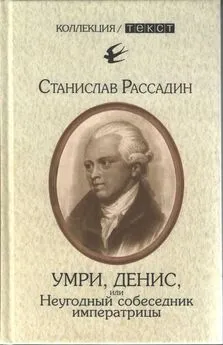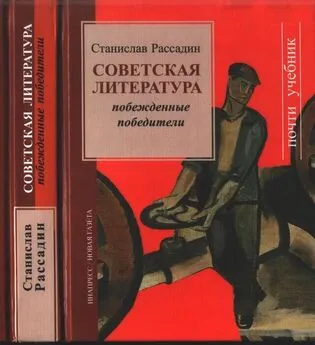Станислав Рассадин - Книга прощания
- Название:Книга прощания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-0760-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Рассадин - Книга прощания краткое содержание
Мемуарная проза известного писателя и литературоведа С.Б.Рассадина. Автор знаменитой статьи «Шестидесятники», по заглавию которой впоследствии был назван целый период интеллектуальной жизни России, рассказывает о своих друзьях, замечательных людях, составивших цвет русской культуры второй половины XX столетия, – Окуджаве, Слуцком, Искандере, Самойлове, Галиче, Козакове, Рсцептере и многих других.
Книга прощания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как бы то ни было, драму поэзии, вынужденной выживать, не свести ни к одной из частностей. Даже если эта частность – сама советская власть.
ВЕЛИКИЙ РАЗДЕЛ
«Пришло время стихов», – заключил Эренбург в знаменательном 56-м рецензию на стихи еще неизвестного Слуцкого. Это, как девиз, подхватил первый «День поэзии», ошеломившая новинка, представившая столько и таких поэтов, каких и не мечталось увидеть в печати. Все верно. С добавлением, что «время стихов», наконец разрешенных цензурой, не означало наступления «времени поэтов». «Ренессанса», который счастливо способствовал бы естественному расцвету индивидуальностей.
Снова из письма Самойлова Слуцкому (лето 1956-го, накануне выхода «Дня поэзии»):
«…Несколько расширились рамки печатности. Ряд новых или старых поэтов получили право жительства. Но право жительства не отменяет черты оседлости. Право жительства еще не демократия. Право жительства каждого поэта в литературе есть его нормальное естественное право.
В литературе создана обстановка, благоприятная для создания нового камуфлированного сантиментального мифа».
Да было ли на Руси «время поэтов»?
Было. Единожды. В пушкинскую эпоху. Но уже Тютчев и Фет существуют как бы при Тургеневе и Толстом, в период великой прозы. Некрасов с этим послушно считается. А их современник Случевский в дивных стихах, где сравнивает поэзию с тоскующей Ярославной, доказывает само право ее существования:
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!…
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!…
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене…
Выразительное «все-таки». Вопреки. Так приходится отстаивать то, что при Пушкине было всеочевидно. И разве наш с вами Евтушенко не так же оговаривается-прого- варивается – в стихах ли о битом Шостаковиче («Нет, музыка была не виновата») или о песенке Окуджавы («Она ни в чем не виновата перед страной»)? Не виновата – обоснование не заслуг, но всего лишь права не быть уничтоженной.
Стоп! А Серебряный век? Но речь, повторю, не о количестве просиявших поэтов, речь о том, насколько время способствует просиянию. И вот Бердяев говорит о симпатичной ему Гиппиус: «…она не была поэтическим существом, была даже существом антипоэтическим… На меня всегда мучительно действовало отсутствие поэтичности в атмосфере русского ренессанса, хотя это была эпоха расцвета поэзии».
Поди разберись.
Разобраться просто, когда и случай простейший. «Выкрутасы… кощунство», – скажет Л. К. Чуковской Ахматова о поэме Вознесенского «Оза», где ее, судя по всему, оскорбила фамильярность в обращении со словами молитвы. Чтб бы она сказала, дожив до строк: «Пахнет псиной и Новым Заветом»? Или: «Христос, доволен ли судьбою? Христос: – С гвоздями перебои»? Тут и о кощунстве говорить не приходится. Кощунствуют верующие. Кощунствовал – Есенин. А здесь – «выкрутасы». Вполне коммерческий расчет, с каким эстрада шестидесятых снизилась до уровня попсы.
Да что Вознесенский! И даже Евтушенко с его безбоязненной откровенностью, которую саму по себе стоит ценить: «Поэзия – жестокая война»! Назову двух поэтов, ни в чем меж собою не сопоставимых, кроме разве того, что оба не принимали Евтушенко категорическим образом. Твардовского и Бродского – фигуры, как теперь выражаются, культовые. Знаковые. Даже они – или в особенности они, учитывая калибр? – тоже болезненно соприкоснулись с антипоэтической реальностью.
И оба – хоть, разумеется, не до уродства, но до той или иной степени деформации.
Война, тем паче жестокая, не может быть естественным состоянием, и Твардовский, всегда ощущавший себя в состоянии борьбы, то со своим «кулацким» происхождением, то с цензурой, не есть ли уже по этой причине олицетворенная драма недовоплощенности? Не поэт ли он разрыва, разлома, разочарования, только не броско-мгно- венного, а превращенного в долгий и до конца еще не завершенный процесс? Тот, что был начат «Страной Мура- вией», воспевшей колхоз и лишь украдкой пожалевшей единоличную душу, а завершен… Нет, повторяю, не завершен поэмой «По праву памяти» с хорошим Лениным иплохим Сталиным. «Мало! слабо! робко!» – записал Солженицын в «Теленке», но, признаюсь не без робости, даже не мудрому лагернику, а мне, духовному недоростку, уже тогда было ясно, что «мало!».
Сдается, Твардовский с его постулатом: настоящие стихи – такие, которые читают и люди, обычно стихов не читающие, с его предпочтением Исаковского и Маршака Заболоцкому и тем более Мандельштаму (о чем уже было говорено), усмирил свой лирический дар, разрешив ему проявляться порою в стихотворении о мальчике, убитом «на той войне незнаменитой», или в «Перевозчике-водо- гребщике», о Хароне с русского Севера. Конечно, он все равно пребудет большим поэтом, но я не о чине и ранге; я – о том, что не дало довоплотиться. О том, например, обстоятельстве, что и в «Теркине» личность автора, до того опасливо таившая свою главную, крестьянскую, боль, хоть и обрела вдруг свободу самовыражения – но отчего? Оттого что эту свободу дала экстремальная ситуация, не метафорическая, а подлинная война, во время которой личность волей-неволей заключила союз – перемирие? – с державой. Но экстремальность – то, что дает возможность взлететь на вершину, а не вечно и постоянно держаться на высоте.
Для поэта – на самой для него важной из всех высот; на высоте полнейшего самовыявления. Как во «время поэтов» было с Пушкиным. Даже с маленьким Дельвигом.
И – Бродский, универсальный антипод, своей уникальностью противостоящий, во всяком случае, противопоставляющий себя и Твардовскому, и Евтушенко, да, кажется, и решительно всем…
Замечаю: о нем, о его уникальности (!) чаще судят по его эпигонам, что плохо вяжется именно с уникальностью. В самом деле, очень легко имитировать то, что на поверхности: «интеллектуализм», надменную иронию, скепсис на грани цинизма. «Служенье Муз чего-то там не терпит». «Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы». И т. д.
Да, в какой-то степени это стиль Бродского; в степени той самой, что, повторю, доступна его подражателям. Но таков ли сам Бродский, с его поэзией закрытости, как разне поощряющей имитацию? Хотя вернее сказать: с его поэзией несчастья и одиночества.
То есть вначале кажется, будто одиночество происходит рт уверенной самодостаточности, что, в общем, уж так нетрадиционно для русской поэзии, поэзии связности – или тоски по связности. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». «Одиночество есть человек в квадрате». Да, Бродский сам выбрал – из гордости? – одиночество как форму независимости. От всего. От всех. Даже от читателя, почему его поздняя манера словно обороняется от проникновения посторонних в суть и в глубь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: