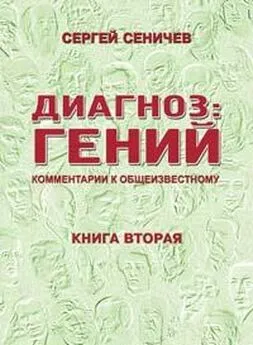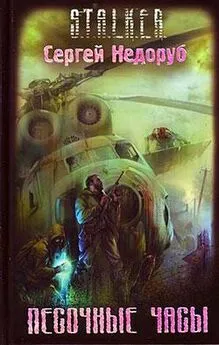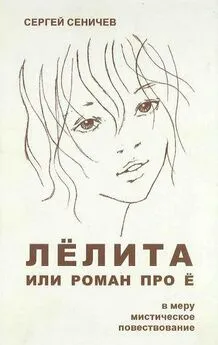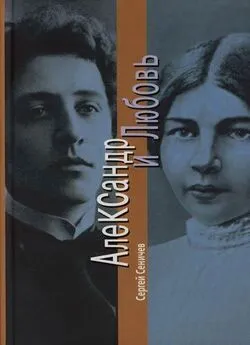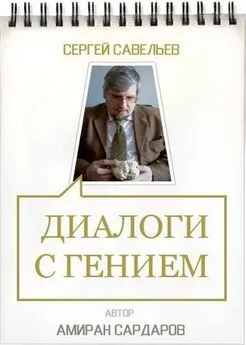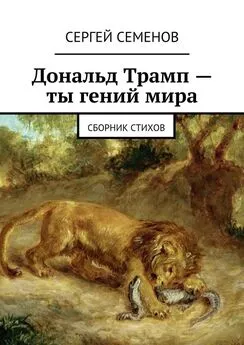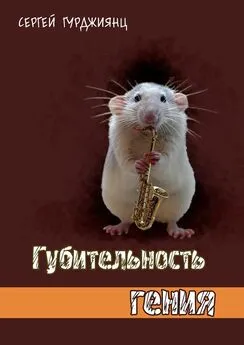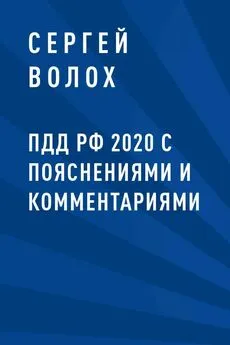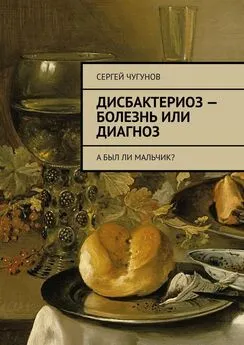Сергей Сеничев - Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному
- Название:Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сеничев - Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному краткое содержание
Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хорошо известно, что, опубликовав «Детство», Некрасов не дал молодому автору ни копейки. Ну просто правило такое было: первая публикация не предполагала гонорара. И 24-летний Толстой — владелец полутора тысяч гектаров земли и семи сотен живых душ — устроил Николаю Алексеевичу показательный скандал и зло ругал в письме — за небольшие поправки и за то, что НЕ ЗАПЛАТИЛИ…
И его можно было понять. Литературный труд изначально был для Льва Толстогоне барской прихотью, но способом заработка. И желавший привязать к журналу перспективного автора Некрасов обещал ему за последующие произведения «лучшую плату» — по 50 рублей серебром за лист. После «Записок маркера» он платил Толстому уже по 75, а после «Набега» и «Святочной ночи» по 100. Но Лев Николаевич всё усиливал прессинг, пока не добился прибавки в виде процентных отчислений от доходов «Современника». О выходе за рекордную для России планку в полтысячи целковых за лист мы уже говорили…
Толстой любил деньги и делал их всеми доступными ему средствами. На регулярные гонорары и приданое жены он привел в порядок расхристанное яснополянское хозяйство. И вскоре имение уже прилично обеспечивало его неуемно растущую семью. Три сотни свиней, десятки коров, сотни породистых овец, тьма-тьмущая птицы, пасека, винокурня, фруктовый сад, маслобойня (продукция с неё шла в Москве по 60 копеек за фунт)…
Параллельно граф принялся скупать окрестные земли. И вскоре чудом уцелевшие в недавних карточных баталиях 750 наследных десятин превратились четыре с половиной тысячи (шестикратное увеличение). Но преуспевающему писателю и этого было недостаточно. Он прикупил четыре с небольшим тысячи десятин земли на Волге. И еще 1800 в Самарской губернии. Засевал их пшеницей и умножал свое достояние…
К середине 80-х он устал от коммерции и подписал передачу всей недвижимости, оценивавшейся к тому моменту в 550 тысяч, жене и детям. Его личный ежегодный доход в последние годы жизни составлял не более 600-1200 рублей, получаемых с Императорских театров за шедшие на их сценах «Плоды просвещения». Ну и приберегал что-то около двух тысяч на черный день…
Тут вспомним Дюма с Бальзаком: выбившись из полной нищеты на гребень самый успеха, они обезумели от достатка и, бездарно растранжирив нажитое, вернулись на исходные позиции. Благополучный же по рождению Лев Николаевич, пройдя через разорение и вернув своё с лихвой, в конце концов, наплевал на деньги как таковые. Одни нашли и потеряли, другой ровно наоборот. Которая из жизненных позиций вам милее, нам совершенно безразлично. Тут внимание фокусируется на главном: трилогия о мушкетерах, вся «Человеческая комедия» и «Анна Каренина» родились из примитивного, в общем, желания авторов разбогатеть. Всё остальное — слова и материал для диссертаций на тему художественной значимости и психологических особенностей их чудесных авторов…
Первое крупное детище ГОНЧАРОВА— «Обыкновенная история», перекупленная и опубликованная Некрасовым за четыре года до толстовского «Детства» и почти за двадцать до «Войны и мира» с «Преступлением и наказанием» — принесло ему по 200 рублей за лист. Сразу же.
Дальше — больше. Создатель и владелец знаменитой «Нивы» Адольф Федорович Маркс не раз публиковал его труды, выплачивая по тысяче за лист. И при этом Иван Александрович, в отличие от того же Льва Николаевича, всю жизнь был вынужден зарабатывать на жизнь службою. В Петербургском цензурном комитете, в Совете по делам книгопечатания (он называл эту должность местом «с тремя тысячами рублей жалованья и десятью тысячами хлопот»).
То есть: писательство в чистом виде не могло обеспечить ДАЖЕ Гончарову с его умопомрачительными гонорарами ДАЖЕ скромного существования: за «уступку авторского права на свои сочинения» он получил всего ничего — 16 тысяч рублей…
Сравните: полтора десятка лет спустя ЧЕХОВвыручил у того же Маркса за права на все свои сочинения 75 тысяч, на которые и перебрался с матерью и сестрой из подмосковного Мелихова в спасительную, как думалось ему, Ялту. При этом все вокруг, да и сам писатель, были уверены, что с продажей он сильно продешевил…
Посредником в переговорах Маркса с Чеховым выступал Сергиенко — литераторишко, от докук которого зимой 1903-го Антон Павлович неостывшим еще выскочит из бани и простынет до такого обострения туберкулеза, что врачи велят ему срочно ехать в Баденвейлер, где писатель и испустит последний дух.
Из воспоминаний Сергиенко: «Чехов верхушечно относился к своему писательскому призванию. Гудя своим звучным баском и ухмыляясь улыбкой калужского мужичка, он говорил, что литературная слава для него на заднем плане. Пишет же он для заработка. "У меня, понимаешь, семья, — говорил он. — Ничего, брат, не поделаешь, нужно работать. Я и от медицины из-за этого отодвинулся, которую люблю больше, чем литературу. Ну что я как медик могу заработать? Сто, полтораста рублей в месяц. Да и то с трудностями. Спишь себе, понимаешь, ночью. Будят: "Пожалте к больному". Едешь за тридевять земель, на край света. Трясешься на извозчике, зябнешь, проклинаешь свою профессию. Приезжаешь, возишься с больными, получаешь три рубля и опять трясешься, и опять зябнешь. А тут присел к столу, посидел два-три часа, и готов очерк, т. е. 20–25 рублей почти в кармане".»
Того же Сергиенко Антон Павлович урезонивал:
— Не стоит, брат, писать больших пьес. То ли дело водевиль. Посидел вечер, и готово.
— Неужели ты «Медведя» написал в один вечер?
— В один. А знаешь, сколько мне дает «Медведь» каждый год?
И, назвав некую кругленькую сумму — Сергиенко якобы подзабыл, какую именно — добавил: «Брось писать стихи. Пиши водевили»…
И еще из Чехова: «Подвижники нужны, как солнце. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих и лгущих ради куска хлеба, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели». Очевидней очевидного, что говорил это Антон Павлович, если и не о себе исключительно, то, как минимум, о себе подобных…
И разве что для смягчения взятого по поводу Антона Павловича тона еще кусочек из его знаменитых записных книжек: «Она полюбила меня за деньги, т. е. за то, что я люблю в себе меньше всего»…
Как известно, Михаил Иванович ГЛИНКАсчитается отцом русской оперы. И опера эта — «Иван Сусанин». Правда, изначально он назвал ее иначе: «Смерть за царя». Его же Величество Николай Павлович подправили: «Жизнь за царя». Ну, это все хрестоматия… Чуть реже вспоминается о том, что, признанная ныне первой национальной, она попала в репертуар Петербургского Большого с огромным трудом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: