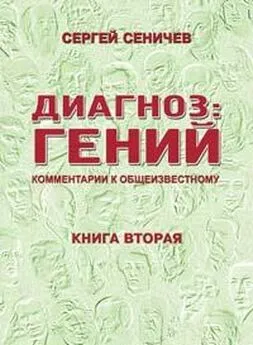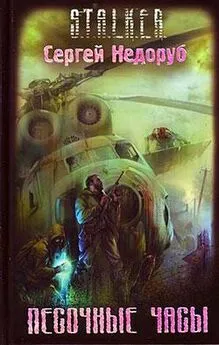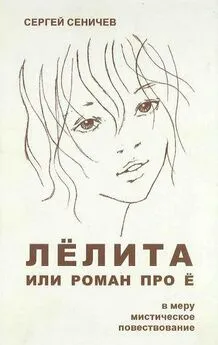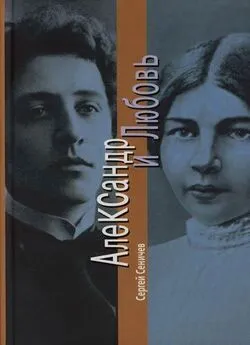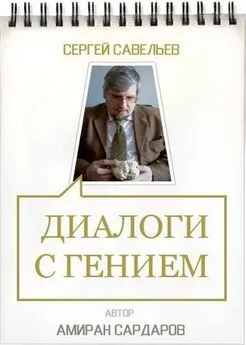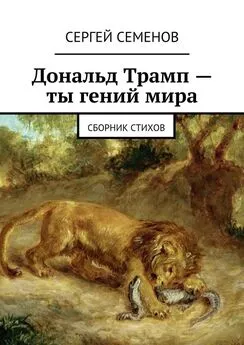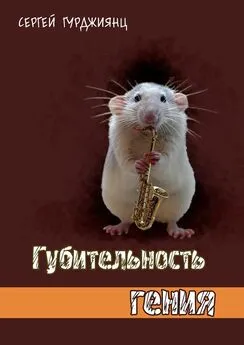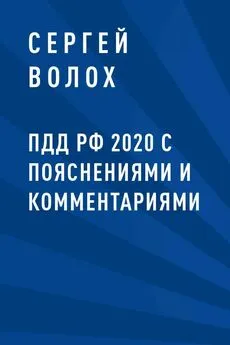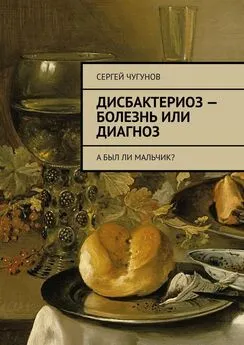Сергей Сеничев - Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному
- Название:Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сеничев - Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному краткое содержание
Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кому верить?..
В кармане у СТИВЕНСОНАвсегда лежали две книжки: одну читал, в другой писал. Как правило, во время прогулок, подыскивая слова и разрабатывая диалоги. При этом Роберт Льюис уверял, что «претворял жизнь в слова…сознательно, для практики»…
Исключительно для практики же правил время от времени рассказы старика Толстого зрелый ЧЕХОВ…
Вообще-то, работал Антон Павлович довольно лениво. С некоторой как бы даже прохладцей. Как бы походя. Мог между каким-то совершенно сторонним делом и разговором вдруг отправиться к столу и «подвинуть» начатый давеча рассказ на три-четыре строки. В одном из писем своему задушевному до определенной поры другу Суворину он признавался, что для литературы в нем не хватает страсти («и, стало быть, таланта»): «Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работой, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать». Врач, в общем. Доктор до мозга костей. Хотя врачу-то следовало бы провидеть, что заточение в сырой Ялте доконает его скорее морозной Москвы…
Что известно доподлинно, так это то, что по ночам Антон Палыч не писал. Во всяком случае, заматерев — уже никогда. С утра пил кофе: «Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон»…
Насчет бесстрастия с бесталанностью — это, конечно, самооговор. Близкие к писателю Бунин и другие восхищенно отмечали, что кумир практически никогда не выпадал из творческого процесса: «всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду, слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой…»
Короленко вспоминал об одной их встрече. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — спросил Антон Палыч. — Вот». И, оглянув стол, «взял в руки первую, попавшуюся на глаза вещь — это оказалась пепельница», поставив которую перед Владимиром Галактионычем, заявил: «Хотите — завтра будет рассказ… Заглавие “Пепельница”». Надо думать, Короленко не выразил сомнений — рассказа с таким названием у Чехова, кажется, так и не появилось…
Но вот «Сирену» — тому были свидетели — Антон Палыч действительно написал в один присест и без единой помарки. Ни единой запятой не пропустив, между прочим.
Правда, в последние годы он стал относиться к себе всё требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, правя и переписывая их, и даже несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры бывали испещрены пометками и вставками. Признавался: чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь: «Если я надолго оставлю рассказ, то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».
И при этом: «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лед», — заявил он однажды все тому же Бунину. Очень, в общем, противоречивой личностью был. Как, впрочем, и все герои настоящей книги. «Иванова» сочинил в десять дней, на «Вишневый сад» ушло десять месяцев…
Великая литература, как ни крути, создается и великой натугой. Век ведь уже минул, а до сих пор востребованней Чехова-драматурга только драматург Шекспир…
«Урывками, со страдальческим лицом» и, в отличие от Антона Павловича, всегда ночью писал Глеб УСПЕНСКИЙ. При этом на столе у него всегда стоял крепчайший холодный чай или пиво…
По ночам — примерно с полуночи и часов до пяти-шести утра — попивая некрепкий и почти холодный же чай, который, правда, позже поменял на спиртное, писал ДОСТОЕВСКИЙ. При этом Федор Михайлович чаще всего творил из-под палки — в номер, к сроку, дотянув до последнего, под угрозой сорвать контракт, в невероятной спешке, в вечном страхе «испакостить вещь торопливостью».
Исключение составляют разве что «Бедные люди», которых он сочинял практически день и ночь и шлифовал потом долгие полтора года. В письме брату хвастался, что в очередной раз перебелил его наново, и от этого «роман только выиграл вдвое»… А каково бы вышло, кабы Федор Михайлович и впредь не слишком торопился и на то же «Преступление и наказание» времени не пожалел?..
ТУРГЕНЕВже, напротив, почти всегда брался за перо под влиянием внутренней потребности — независимо от воли. Неделями гнал от себя это побуждение, но отделаться от него совсем Ивану Сергеевичу не удавалось. Образы и картины, порождаемые личными воспоминаниями, загоняли его в кабинет, к столу. Он запирался и часами вышагивал по комнате — «шагал и стонал там»…
Друзья БЕТХОВЕНАвспоминали, что во время работы оглохший композитор выл как зверь и метался по комнате, напоминая буйно помешанного. При этом большинство из них деликатно умалчивали о том, что вытье с метаниями были лишь частью процедуры погружения во вдохновение. Начиналось обычно с того, что Людвиг ван «в глубочайшем неглиже» (проще говоря, практически полуголый) становился к умывальнику и выливал НА РУКИ кувшин за кувшином, после чего и начиналось знаменитое вытье (именно вытье: петь Бетховен катастрофически не умел). Затем он с как будто остановившимся и пугавшим многих взглядом несся по залитому полу к столу, записывал что-то и тотчас же бросался назад, к умывальнику. В эти минуты (или часы) ему становилось не до присутствующих. Кроме того, Людвиг ван старался не бриться: был твердо убежден, что бритье препятствует творческому приходу. Нам это может казаться не чудачеством, но ему-то, помогало…
Другим — и свидетельств тому не перечесть — фирменным компонентом вдохновлявшей композитора атмосферы являлся царивший в кабинете раскардаш на уровне самого настоящего бардака. Или, как принято называть это, творческий беспорядок. Недопитые бутылки соседствовали с еще не откупоренными. Книги, ноты, какие-то финансовые бумаги — всё это было (так и просится в строку: мастерски) разбросано по углам, как правило, вперемешку с остатками остывшей, а то и вовсе — вчерашней пищи. Уточнять ли, что обстановка эта не являлась результатом природной неряшливости гения — она производилась тем изнуряющим стилем работы, когда мозг и вся нервная система творца содержались в непрекращающемся напряжении.
«Когда б вы знали, из какого сора» — это ведь Ахматова не придумала — всего лишь сформулировала…
Великий потоп…
Великий лондонский пожар 1666-го…
Великая американская депрессия 30-х прошлого столетия… Великая Отечественная… Аналогичным порядком великий немой — Чаплин, великий слепой — Гомер, великий глухой — Бетховен…
Родившийся за три года до его смерти СМЕТАНАтоже потерял слух. Летом 1874-го (ему исполнилось пятьдесят) начал испытывать постоянный шум в голове. Тот напоминал назойливое звучание расстроенных октав. Обратился к врачу. Назначенное лечение не дало улучшений — шум лишь усиливался. В сентябре он покинул пост главного дирижера родного «Временного театра», а в ночь с 19 на 20 октября того же года случилось непоправимое — композитор оглох.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: