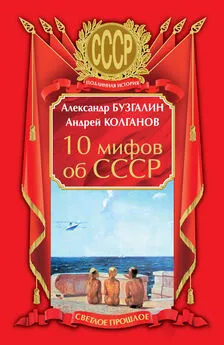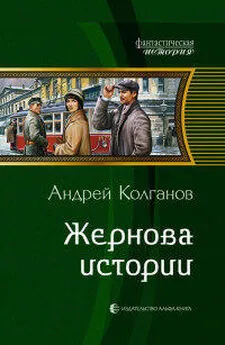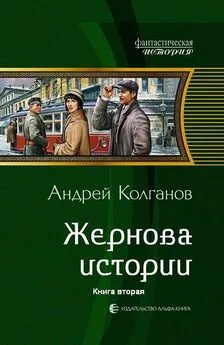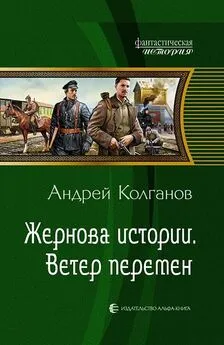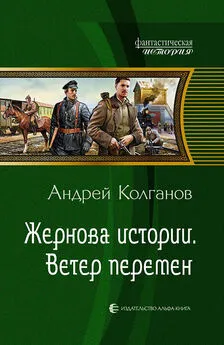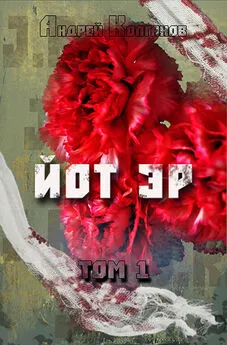Андрей Колганов - 10 мифов об СССР
- Название:10 мифов об СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-39243-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Колганов - 10 мифов об СССР краткое содержание
Был ли Ленин «немецким шпионом», а Октябрьская революция 1917 года – социалистической? Можно ли было избежать ужасов коллективизации и Большого Террора? Почему Красная Армия проиграла начало Великой Отечественной войны и куда подевались десятки тысяч советских танков и «сталинских соколов»? Был ли шанс победить «малой кровью, могучим ударом» и кто лоббирует скандальные сочинения Виктора Суворова? Обязаны ли мы Великой Победой Сталину или одолели фашизм вопреки его руководству? Что такое «мутантный социализм» и было ли неизбежно крушение Советского Союза?
Отвечая на главные вопросы отечественной истории, эта книга исследует и опровергает самые расхожие, самые оголтелые и лживые мифы об СССР.
10 мифов об СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Авторам таких установок надо было бы вспомнить слова В. И. Ленина, написанные им в самом начале наброска «Мысли насчет «плана» государственного хозяйства». Эти слова как нельзя лучше вскрывают главный порок многих плановых проектов – порок, в котором создатели этих проектов не желали признаваться и тем губили дело. В. И. Ленин же не стеснялся направлять критику в том числе и в свой собственный адрес: «Главная ошибка всех нас была до сих пор, что мы рассчитывали на лучшее; и от этого впадали в бюрократические утопии» [173].
Весьма явственные черты бюрократической утопии видны и в установках редакции «Большевика» – не потому, что выдвигалась линия на создание крупных, хорошо оснащенных колхозов, а потому, что достичь этого результата предписывалось немедленно, перепрыгивая через всяческие промежуточные ступеньки, надеясь сразу прийти к тому, что могло быть только плодом определенного периода развития. А установка на сплошную коллективизацию в кратчайшие сроки превратила в дальнейшем этот подход в подлинную утопию, которая не могла быть реализована и не была реализована.
Однако до осени 1929 года не только сплошная коллективизация, но и форсирование проходившей коллективизации официальными партийными решениями не предусматривались. XVI партконференцией, состоявшейся в апреле 1929 года, были приняты решения, намечавшие рост посевных площадей обобществленного сектора (колхозы и совхозы) к 1933 г. до 26 млн га, т. е. до 17,5 % общей посевной площади, рост их удельного веса в валовой продукции – до 15,5, а в товарной продукции зерновых культур – до 43 % [174]. В колхозах намечалось объединить к концу пятилетки до 18–20 % крестьянских хозяйств, т. е. 4,5–5 млн, а всеми видами кооперации охватить не менее 85 % крестьянских хозяйств [175].
Но выполнение этой программы также сталкивалось со значительными трудностями, связанными с невозможностью в кратчайшие сроки получить необходимое количество техники. Эта ситуация стала еще более обостряться, когда увеличение числа колхозов вышло за пределы предусмотренного пятилетним планом. Партийные организации на местах проявляли беспокойство сложившимся положением. Так, Сибирский крайком ВКП (б) направил 5 августа 1929 года в Центральный Комитет письмо, в котором указывал на образование значительного разрыва между темпами коллективизации и возможностями технического оснащения колхозов. Если в 1927 году на 1000 га посевов в колхозах приходилось 7,5 трактора, то в 1928 – 5, а в 1929 году – 2,1 трактора [176].
Немалые разногласия породила проблема определения классовой линии партии в ходе коллективизации. Споры сконцентрировались вокруг вопроса об отношении к кулаку. На XVI конференции ВКП (б) основная линия разногласий проходила через решение вопроса: будет ли колхоз переделывать кулака или же кулак взорвет колхоз изнутри? Одни считали, что кулака, как правило, в колхоз допускать не следует [177]. Другие делегаты полагали, что массовый приток крестьян в колхозы лишает кулака социальной базы для эксплуатации, что организационно крепкий, тракторизованный колхоз способен «переварить» кулака при условии, что последний временно лишается в колхозе избирательных прав и сдает в колхоз все средства производства. Резко отрицательно относился к кулаку И. М. Варейкис, секретарь обкома Центрально-Черноземной области. Он считал, что кулака не только не следует принимать в колхоз, но надо очистить от него и существующие колхозы [178].
Нарком земледелия РСФСР Н. А. Кубяк пытался обратить внимание делегатов на то, что основной проблемой колхозного движения отнюдь не является выработка мер против кулака. Главной слабостью колхозов был не «пробравшийся туда классовый враг», а недостаток техники, квалифицированных кадров, организованности, слабость финансового положения: «Товарищи утверждали, что коллективы в своем большинстве разваливаются потому, что это кулацкие коллективы, что их разлагает кулак и т. д. Это совершенно не так. Чаще разваливаются бедняцкие колхозы и даже организованные давно». Н. А. Кубяк безуспешно призывал (как и некоторые другие делегаты) не сводить все обсуждение колхозной проблемы к спору о кулаке, а сосредоточить внимание на действительных недостатках колхозного движения: «Два дня мы дискутируем о коллективизации и о колхозах, и никто до сих пор не отметил необходимости надлежащей организации хозяйства в колхозах» [179].
Дискуссия об отношении к кулаку продолжалась и после XVI конференции, не принявшей по этому поводу никаких решений. «Предложения согнать кулаков с земли вовсе или переселить их на пустующие окраины либо на необитаемый остров мы не слышали» [180], – констатировал В. А. Карпинский в июне 1929 г. Рассматривалась, как и на XVI конференции ВКП (б), лишь возможность переселения кулаков на отруба или на хутора, что встречало вполне резонные возражения, что тем самым как раз сохраняется экономическая база кулака, что именно прием в колхоз лишает кулака возможности использовать свои средства производства для эксплуатации, а рецидивы его классовой вражды ставит под контроль.
В рассматриваемый период (до декабря 1929 г.) раскулачивание нигде не фигурировало как официальный партийный лозунг. Более того, имелись вполне определенные директивы против раскулачивания. 13 февраля 1928 г. в письме партийным организациям по поручению ЦК ВКП (б) И. В. Сталин писал: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба. Нэп есть основа нашей экономической политики и остается таковой на длительный исторический период». 20 июня 1928 г. И. В. Сталин в письме членам Политбюро ЦК повторил этот тезис: «…нельзя бороться с кулачеством путем раскулачивания, как это делают иногда некоторые наши работники на местах» [181].
Наконец, июльский (1928 г.) Пленум ЦК ВКП (б) прямо предостерег против понимания чрезвычайных мер как вытекающих из курса партии на усиление наступления на капиталистические элементы и высказался против раскулачивания [182]. Ни весной, ни летом, ни осенью 1929 г. эти установки не были пересмотрены ни пленумами ЦК, ни XVI конференцией ВКП (б). Но именно в этот период произошли заметные сдвиги во внутреннем положении деревни и в хлебозаготовках, оказавшие серьезное влияние на фактический отход от этих решений, которые формально не были пересмотрены.
Официальный курс партии на изживание условий, вызвавших в 1928 г. применение чрезвычайных мер при хлебозаготовках, казалось бы, последовательно выполнялся. Были повышены заготовительные цены на зерно, хотя это повышение привело к тому, что средний уровень заготовительных цен 1928/29 г. составил только 96 % уровня 1925/26 г. Правда, эта цена обеспечивала рентабельность производства зерна примерно в 20 % [183]. При этом произошел значительный скачок цен на хлеб в частной торговле – более чем вдвое. Разрыв между ценами на сельскохозяйственную продукцию планового и частного рынков составил в 1928/29 г. 202 % [184].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: