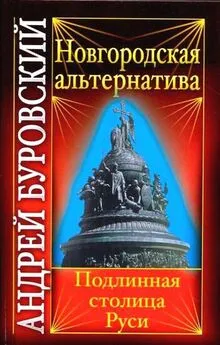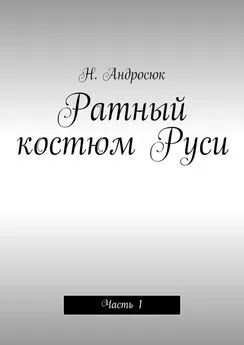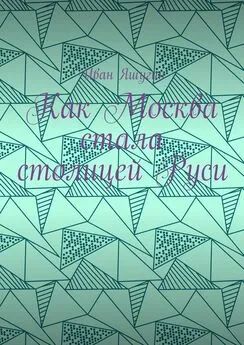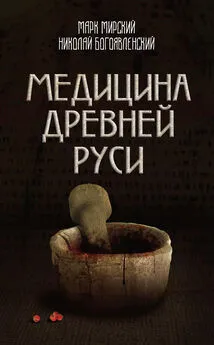Николай Клёнов - Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород. Тверь. Смоленск. Москва
- Название:Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород. Тверь. Смоленск. Москва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-5804-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Клёнов - Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород. Тверь. Смоленск. Москва краткое содержание
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако любой историк в своих исследованиях обращается к альтернативной истории, когда дает оценку описываемым персонажам или событиям, реконструирует последствия исторических решений, поступков, событий, образующих альтернативу произошедшему в реальности. Тем не менее, всерьез заниматься альтернативной историей рискуют немногие серьезные историки.
И все же, отечественная история предлагает богатейший материал для альтернативных исследований, ведь даже само возникновение нашего государства на бедных и холодных равнинах северо-востока Европы, да еще и с центром в ничем не примечательном городке, выглядит результатом невероятного нагромождения случайностей. Почему с XIV века центробежные тенденции на Восточно-Европейской равнине сменились вдруг тенденциями центростремительными? А если бы собирание земель возглавил богатый Новгород или гордый Смоленск? А если бы пресловутое иго было свергнуто еще в XIII веке? На эти и другие вопросы ищет ответы автор настоящей книги.
Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород. Тверь. Смоленск. Москва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эмоциональные и пристрастные обличения летописцев и иностранных наблюдателей дополняют сухие строки внутренних отчетов для служебного пользования по состоянию Деревской и Шелонской пятин: население этих территорий в 1573 г., после завершения опричнины, составляло 9–10 % от того количества, которое проживало в начале XVI столетия. При «обыске» писцы указывали причины запустения обеж, ухода или гибели хозяев: голод, мор, бегство от податей, от насилия войск, двигавшихся в Ливонию по проходившим по пятине дорогам. Из этих ответов получилась такая показательная таблица, отражающая долю запустевших обеж от уровня переписи благополучного 1500 г. [Аграрная история Северо-Запада России. Т. 2, табл. 36]:
| Причины запустения | 1551–1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| голод | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 7,4 | 9,5 | 12,9 | 18,1 | 19,1 | 19,6 |
| мор | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 6,2 | 10,1 | 10,9 | 11,1 |
| подати | 5,1 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 12,6 | 16,3 | 20,7 | 26,1 | 33,3 | 39,8 | 41,0 | 41,6 |
| «дорога» | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,9 | 7,0 | 9,1 | 9,4 | 9,7 |
| опричнина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 4,4 | 6,3 | 7,9 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Так что не будет преувеличением сказать, что в опричные годы государство и общество пережили масштабную катастрофу, которая к тому же мало изменила политический ландшафт страны и не решила ни одной из накопившихся государственных проблем.
3. Выводы и московская альтернатива
Малого ледникового периода и рассуждений о «демографическом сжатии» совершенно недостаточно для объяснения таких итогов правления Грозного, особенно в сравнении с итогами той же эпохи для других государств Восточной и Северной Европы [ Abel W. Bevölkerungsgang und Landwirtschaft im ausgehenden Mittelalter im Lichte der Preis- und Lohnbewegung, Schmollers Jahrbücher, 58, Jahrgang, 1934; Postan M. Revision in Economic History: the fifteenth century. The Economic History Review. 1939. Vol. 9. № 2]. Поэтому в виде дополнения к упомянутым «макроэкономическим» объяснениям тяжелейшего кризиса, поразившего Россию во второй половине XVI — начале XVII в., я сформулирую 14 тезисов для описания эволюции государства и общества за этот период, собранных в работах Карамзина, Соловьева, Платонова, Веселовского, Зимина, Скрынникова, Хорошкевич, Фроянова, Володихина. Эти тезисы являются, по сути своей, описанием эволюции сложной динамической системы с положительной обратной связью, стремительно развивающейся, но и столь же стремительно выходящей на запредельные режимы работы.
1) Административная и военная машина российского государства в основном сформировалась вместе с системой местничества в 50–60-е гг. XV в. Местничество оставалось сутью и стержнем московской внутренней политики на протяжении всего XVI в.
2) Инкорпорировав за счет создания местничества военные элиты Суздальской, Ростовской, Ярославской земель, Москва получила ресурсы для покорения Господина Великого Новгорода. А этот военный успех, в свою очередь, дал в руки московских великих князей огромные земельные ресурсы — основу для создания поместного дворянского СЛУЖИЛОГО землевладения (по Скрынникову, конфискации новгородских земель дали в общей сложности 72 000 обеж земли, из которой 51 % оставался в руках великокняжеской администрации, 36 % пошло в раздачу формирующемуся дворянскому корпусу).
3) Блестящие военные успехи первого этапа российской истории, культурное влияние южных и восточных соседей, широкая поддержка со стороны нового дворянства да просто сама роль «удерживающего» в разрешении местнических споров — все это укрепило личную власть московских самодержцев.
4) Военная и административная элита Московского государства приняла правила игры во властелина «Божьим изволением», так как реальная власть государя над его «холопами» была ограничена отсутствием собственного репрессивного аппарата и сложностью сформированной системы управления государством. В реальных документах мы сплошь и рядом видим, как «холопы» государя демонстрируют твердые представления о собственном достоинстве, своё понимание того, что «государь волен в голове и службе, но не в отечестве». Вот в 1534 г. князь А. И. Стригин-Оболенский довольно резко выражает своё недовольство решениями правительства по установлению дипломатических отношений с «узурпатором» крымского престола, что представляется ему умалением и его личной чести, и достоинства правительства:
«А в твоих государевых наказных списках написано, что Ислам — царь… И ты, государь, велел мне Исламу на царстве здравствовати. А Ислам и во царех не бывал; а в Литву, государь, Ислам к королю царевичем пишется, в калгах у Сап-Гирея царя… а ныне Ислам к тобе ко государю послал посольством Темеша. И того, государь, Темеша в Крыму не знают, и имени его не ведают. И в том Бог волен и ты, государь, опалу или казнь на меня, на холопа своего, учинишь, а мне, государь, противу того Исламова посла Темеша не мочно идти» [Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009. С. 177].
5) Таким образом, оптимальная структура власти для той России — это государь, искусно маневрирующий между могущественными фракциями-кланами Боярской думы (70–90-е гг. XV в., 50-е гг. XVI в.). При этом система регулярно уходила от оптимума то в сторону усиления великокняжеской власти и упрощения системы управления государством (правитель «сам-треть» решает все дела «у постели»), то в сторону ослабления великокняжеской власти и излишнего усложнения системы управления. Механизмы «защиты от дурака» в системе работали. Причем эти механизмы были закреплены законодательно, что вообще-то было не слишком характерно для средневековой Москвы: (статья 58 Судебника 1550 г.) «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не прописаны, а как те дела с государеву докладу и со всех бояр приговору вершается , и те дела в сем Судебнике приписывать» [Судебники XV–XVI вв. М.-Л., 1952. С. 176].
6) Одним из важнейших противовесов растущей власти великого князя/царя являлась богатая и влиятельная Церковь, хотя сложившаяся при Василии II Темном международная изоляция русского Православия и уменьшила степень его независимости от светской власти. В конце XV в. при Иване III Великом государство вело наступление на церковно-монастырское землевладение. Началось это наступление опять с присоединения Новгорода, ознаменовавшегося невиданным доселе изъятием церковных владений. Но довольно быстро акт завоевателя перешел в явно сознательную политику «земельной секуляризации»: были конфискованы многие земли пермского епископа, прошли новые изъятия церковно-монастырских земель в Новгороде, в 80-е гг. XV — 10-е гг. XVI в. значительно сократился рост вотчин Троице-Сергиева, Симонова и Кирилло-Белозерского монастырей, резко ограничены были и иммунитетные привилегии монастырей [АСЭИ. Т. III. № 291, 291а, 2916; Горский А. А. Борьба крестьян за землю на Руси в XV — начале XVI в.]. Церковь XV в., однако, и не думала мириться с такой политикой властей, публично называя правительство «церковными грабителями», «святотатцами», «сребролюбными хищниками», обещает властям «иже церковнаа стяжаниа… отемлет… от святых отец отречен и отлучен наричеся зде и в будущем» [Слова кратка… ЧОИДР. Кн. П, отд. 2. С. 2–47]. Ну а Собор 1503 г., на котором потерпели крах попытки Ивана III поставить вопрос об отмене монастырского землевладения, показал, что за грозными словами стоит серьезная сила, способная при определенных условиях выступать в качестве одного из сдерживающих механизмов в сложной динамической системе Московского государства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
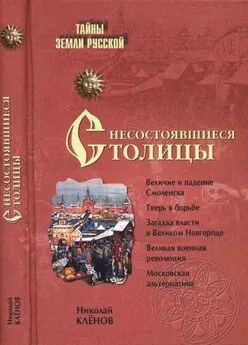

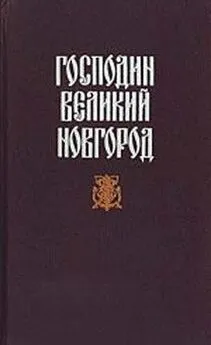

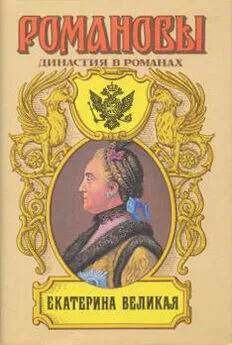
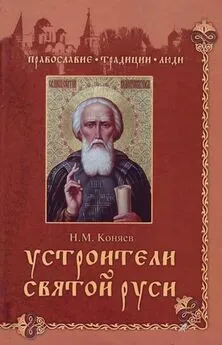
![Александр Исаченко - Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой [Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка]](/books/1081890/aleksandr-isachenko-esli-by-v-konce-xv-veka-novgoro.webp)