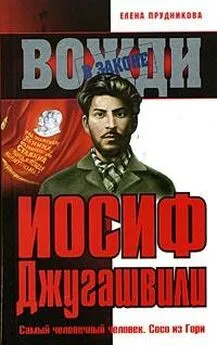Елена Прудникова - Мифология «голодомора»
- Название:Мифология «голодомора»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-373-05043-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Прудникова - Мифология «голодомора» краткое содержание
Антироссийская пропаганда 90-х годов держится, по сути, на четырех столпах. Это миф о репрессиях, миф о том, что Великая Отечественная воина вовсе не была Отечественной, миф о Катыни и миф о «голодоморе». Если первые три за последние десять лет уже изучены и частично или полностью опровергнуты, то «голодомор», по сути, никем и не изучался. История, будучи городской образованной дамой, мало интересуется крестьянским вопросом. Между тем, не осмыслив сути советской аграрной реформы и цены, которую наша страна заплатила за то, чтобы вырваться из феодализма, вообще невозможно понять то страшное и великое время.
По сути, «голодомор» — окончательная цена дворянских гнезд, барышень в белых платьях, выездов и бриллиантов, Петергофа и Третьяковской галереи, побед русского оружия и кутежей русских миллионеров. Это плата по счетам той России, которую мы потеряли, хотя платить пришлось уже новой России…
Мифология «голодомора» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сорняки некоторым хозяйствам были настолько выгодны, что прямо хоть семена чертополоха разбрасывай по полям!
Продолжим, однако, читать Назара Назаренко.
« Мышевидные грызуны. Наконец, в 1932 году наблюдалась массовая вспышка размножения мышевидных грызунов. Массовое размножение грызунов отмечалось для южных и юго-восточных районов СССР с весны 1932 года, а к осени сплошным массовым размножением была охвачена вся Степная зона от Бессарабии (Молдова) до Дона и предгорий Кавказа. Плотность нор в отдельных районах доходила до 5000 на гектар (Джанкойский и Ишуньский р-ны Крыма), 3000 на гектар (Днепропетровская и Одесская области Украины), 10 000 нор на гектар (осенний период по всему Северному Кавказу), 10 000 нор на гектар (Калмыкия и Поволжье). Также рост численности мышевидных грызунов наблюдался и для других районов СССР. Наиболее пораженными были районы Северного Кавказа, Дагестана, Нижней Волги, Урала, Казахстана (10 000 нор на га); Восточной Сибири (9000 нор на га), Крыма, Якутии и Западной Сибири (5000–6000 нор на га). Катастрофическую ситуацию на Украине подтверждают данные сообщения специалистов с мест, при этом главный вред выражается в порче зерна в скирдах и хранилищах. То же наблюдалось и в других районах, например, зимой 1932–33 гг. в Ставрополье в скирдах половы находили до 4000 мышей (до 70 мышей на кубический метр). При этом авторы в качестве одних из ведущих причин такой вспышки численности называют благоприятные метеорологические условия (обилие осадков) и оставление неубранного и не обмолоченного хлеба на полях, ненормальные способы хранения зерна (вот они и проявили себя — ямы-схроны и неубранные скирды, в которые прятали хлеб) и мелкая пахота (не разрушаются норы) » [187] Назаренко Н. Голод 1932–1933 годов как результат системного кризиса в сельском хозяйстве // http://ihistorian.livejournal.com/97621.html
.
Конечно, 70 мышей на метр скирды могут умилить любителей пушистого, но жрут они — уму непостижимо! И, кстати, если влияние сорняков на урожай сказывается при пробном обмолоте, то мыши-то кишат в скирдах уже собранного хлеба, увеличивая и без того немалые потери.
Между пальцев
Свою лепту в ухудшение соотношения между средним урожаем и валовым сбором внесли и потери при уборке. Нам, привыкшим при слове «уборка» представлять комбайны, у которых на входе — пшеница, а на выходе — обмолоченное зерно, вообще непонятно, о каких потерях может идти речь — разве что кузов у грузовика дырявый. Между тем в доколхозной деревне уборка проходила совсем не так. Хлеб сперва косили или жали, потом скирдовали, затем скирды свозили в овин и уж там, выбрав время, молотили. На этом пути с хлебом могло произойти все что угодно. Он мог осыпаться до уборки, сгнить в скирдах, его могли украсть прямо с поля, с телеги, из овина…
Вот красноречивый пример бездумных потерь — так называемый «конвейер». В 1930 году газеты начали раскручивать новый передовой метод уборки — без скирдования, дабы уберечь урожай от расхитителей. По задумке, скошенный хлеб следовало сразу обмолачивать и свозить на заготовительные пункты. Газеты начали, на местах радостно подхватили, противников «конвейера» обвиняли в правом уклоне. В итоге выяснилось, что сам метод являлся левацким — хлеб, брошенный на поле, в ожидании обмолота вполне успешно гнил, чем изрядно подпортил показатели рекордного урожая.
В 1932 году уборочные работы проводились классическим методом, но из рук вон плохо. Именно на этот год приходится «черная точка» во взаимоотношениях крестьян и власти, пик бардака «сверху» и пик пассивного сопротивления реформе, проявлявшегося как в саботаже и вредительстве, так и в банальном нежелании что-то делать. Работали на полях так, что глаза бы не глядели — не везде, конечно, но много где…
Сводки Наркомзема и ОГПУ сообщают о задержках покоса, отчего зерно осыпалось на корню, о разрыве между косьбой и скирдованием, по каковой причине гнил брошенный в поле хлеб, о том, что плохо заскирдованное зерно прорастало. А случалось, что колхозники просто бросали хлеб в поле и расходились на заработки.
Каковы были потери в 1932 году? Виктор Кондрашин пишет:
« Уборочная страда 1932 г., как и посевная и прополочная кампании, прошли крайне неудовлетворительно с точки зрения соблюдения правил агротехники. Срывы сроков уборки, качество молотильных работ и небрежная перевозка убранного хлеба обусловливали огромные потери урожая. Если в 1931 г., по данным НК РКИ, при уборке было потеряно более 150 млн ц (около 20 %) валового сбора зерновых, то в 1932 г. потери урожая оказались еще большими. Например, на Украине они колебались от 100 до 200 млн пудов. По данным годовых отчетов колхозов и совхозов, потери зерна от засухи и при уборке в 1932 г. достигали 15 млн т, то есть почти 30 % выращенного урожая. В целом по стране не менее половины выращенного урожая осталось в поле » [188] Кондрашин В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008. С. 111.
.
Какая-то несколько странная арифметика. Если говорить об Украине, то «от 100 до 200 млн пудов» — это примерно от 11 до 22 %, а вовсе не «еще больше 20 %». И если потери достигали 30 % выращенного урожая, то почему «половина зерна осталась в поле»? Но все равно потери были большими, недопустимо большими.
« Почему так произошло ?» — спрашивает автор. И делает вывод: « Ответ на этот вопрос очевиден. Все нарушения агротехники — результат насильственной коллективизации …»
В общем-то, конечно, так оно и есть. Примерно так повышенная температура является результатом прививки — но хоть и плохо человеку, а делать-то прививку все равно надо! Впрочем, изучение истории того времени учит осторожности — в первую очередь по отношению к очевидным ответам.
Вот, например, самый простой комментарий к данному постулату: результатом коллективизации стали не все нарушения агротехники, а лишь избыточные, сверх тех нарушений, которые имелись изначально. Посевную затянули? Ее затягивали и раньше — то пасхальная неделя придется на урочное время, то лошади нет, то надо долги отрабатывать. Поперечной вспашки не было? Так ее и в единоличных хозяйствах не было. Зерно осыпалось? Так оно и раньше осыпалось, пока хозяин полоски за долги работал на кулака. И так далее, и тому подобное…
Или вот, например, самый простой вопрос: а все ли эти миллионы пудов были потеряны? Или часть их лишь списали на потери, а на самом деле украли? Или почему годом позже насильственная коллективизация никак не сказалась на работе, а в 1932-м привела к таким прискорбным последствиям?
…Но все же сказывалась и коллективизация — точнее, не она сама, а «перегибы», на которые были так щедры гоняющиеся за показателями совчиновники и рвущиеся в коммунизм молодые партийцы. То загоняют всех в колхозы насильно, под угрозой раскулачивания, то обобществляют все, вплоть до курей, то в погоне за дисциплиной вводят телесные наказания (бывало и такое!), а то, наоборот, актив пьянствует, а работа стоит. Именно в тех районах, где особо свирепствовали «перегибщики», был самый большой падеж скота, и там же — самые большие приписки и самые свирепые хлебозаготовки. Все это проявления одного и того же стиля руководства. И, как следствие этого стиля, там же была самая худшая работа в колхозах и самые большие потери.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: